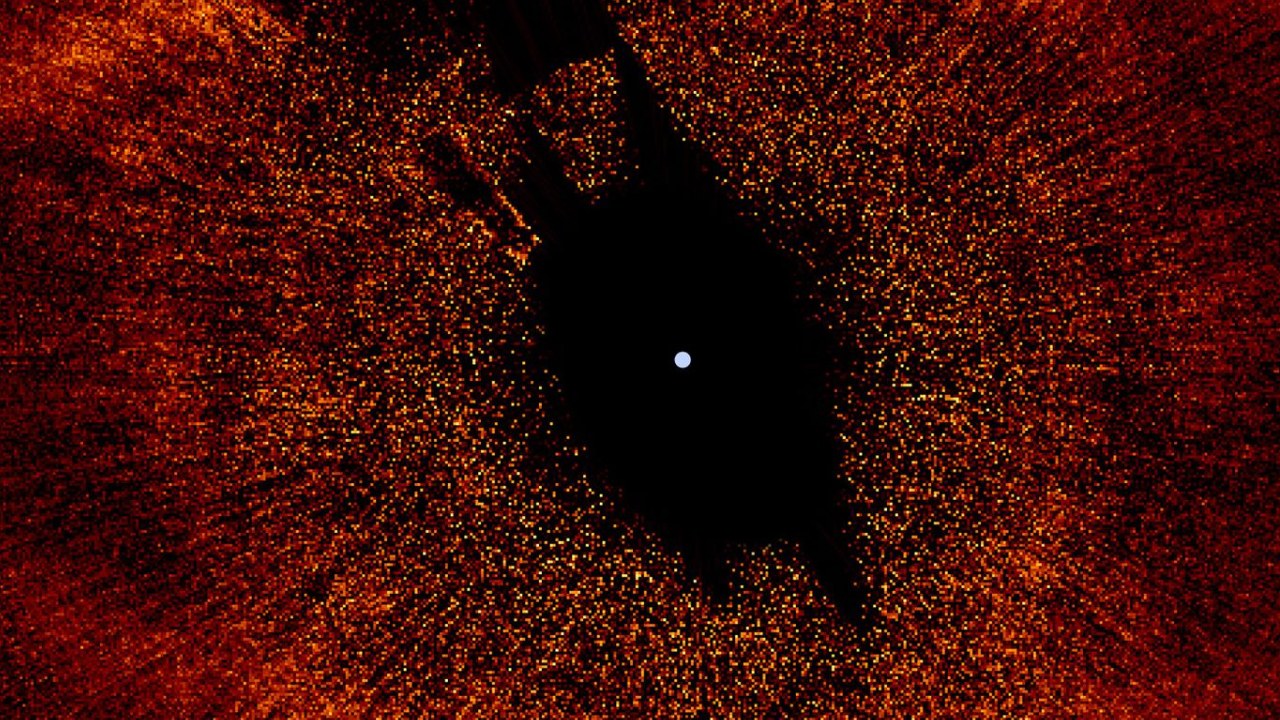Каргополь — живая страница истории
Близ границ с Вологодской областью и Карелией, в юго-западном углу Архангельской области, у истока реки Онеги близ озера Лаче стоит старинный русский город Каргополь. Первое письменное упоминание как города (Карго поле) датируется XV в., когда в 1447 г. каргопольцы дали приют бежавшим из Москвы князьям Ивану Можайскому и Дмитрию Шемяке. В царствование Ивана IV, в 1565-м, город зачислен в девятнадцать "царских городов", обеспечивавших содержание опричнины. К этому времени город становится одним из богатейших торговых центров Севера. Он уже славился своей сильной крепостью, которая не раз отражала вражеские полчища, посягавшие на северные земли Русского государства.Однако в XVIII столетии, с открытием Балтийского морского пути, Каргополь постепенно теряет своё торговое и стратегическое значение и к 1770-м годам числится уездным городом Олонецкой провинции Новгородской губернии. В XIX же веке Каргополь становится глухим и окраинным северным городком, где кроме великолепных белокаменных храмов, ничто не напоминает о былом его расцвете и величии. Таким он дошёл и до наших дней.
Строительство монументальных каменных храмов особенно интенсивно начало развиваться с середины XVII века. От этого периода в городе сохранилось три церкви, представляющие собой уникальные памятники не только для Каргополя, но и для русской северной архитектуры в целом.
Двухэтажная Благовещенская церковь 1692 года - жемчужина белокаменной архитектуры Русского Севера. Трудно найти для XVII века второй такой пример, где слились в единое целое суровая грубоватая пластика монументальных стен и тонкая ювелирная огранка деталей.
А теперь перейдём к гражданской архитектуре. Немного в наше время городов, где больше половины жилых домов это деревянное зодчество XIX века. В Каргополе историческая застройка удивляет большим количеством сохранившихся старинных бревенчатых домов. После очередного большого пожара в 1765 году, когда было уничтожено более трёхсот строений, город начали отстраивать заново. Однако и после реконструкции, перепланировки и благоустройства к концу XVIII столетия город по-прежнему оставался деревянным.
И даже спустя век, в 1891 году, гражданских каменных зданий значилось только одиннадцать.
Читайте также