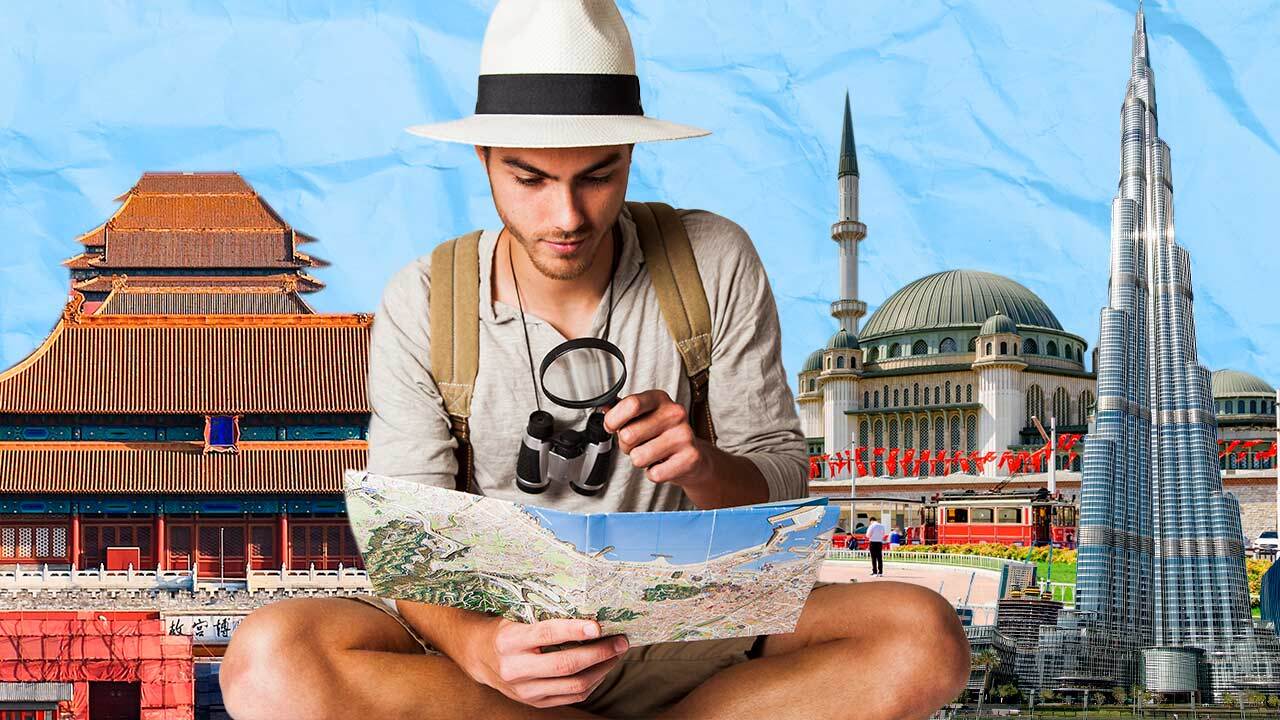Азия в красках
Бывает же такое: возвращаешься из дома туда, где живёшь сейчас, не понимаешь, зачем ты здесь, мёрзнешь, пишешь ностальгические тексты… И тут родина настигает тебя окончательно, хватает за рукав и говорит что-то вроде "не бойся, я с тобой!». Ты оборачиваешься, изумлённо всматриваешься в её азиатское лицо и вспоминаешь, как дышать и жить. В общем, не успела я вернуться из Узбекистана, как в нашем Радищевском музее открылась выставка «Образ Востока». Это было моё самое короткое путешествие – от дома до музея идти всего 15 минут)
Афиша обещала картины из собрания Русского музея, Третьяковской галереи, музея Востока и саратовского художественного музея имени Радищева, написанные в начале XX века в Средней Азии. Ещё раз оглянуться и сравнить, как почти сто лет назад выглядели те места, где мы побывали буквально две недели назад – за этим я и пришла на выставку. Совпадения не заставили себя ждать. Таким - совсем не туристическим - увидел Самарканд художник из Саратовской области Кузьма Петров-Водкин в 1921 году; вид ниже - июнь 2014-го.

Кузьма Петров-Водкин. Вид Самарканда

Петров-Водкин ездил в Среднюю Азию в составе научной экспедиции, которая исследовала памятники архитектуры. В путевом очерке «Самаркандия» он пишет, что больше всего полюбил один из них: «Вот Шахи-Зинда, та сразу, как только вынырнули ее купола в прорезах священной рощи, - она стала моей любимицей».

Петрова-Водкина поразило то же самое, что до сих пор привлекает сюда туристов, и художник пытается разгадать цветовую загадку этих мест:
«Небо я видел во все часы суток...
Этот переплет ультрамарина, сапфира, кобальта огнит почву, скалы, делая ничтожной зеленцу растительности, вконец осеребряя ее, - получается географический колорит страны в этих двух антиподах неба и почвы. Это и дает в Самаркандии ощущение зноя, жара, огня под чашей неба.
Человеку жутко между этими цветовыми полюсами, и восточное творчество разрешило аккорд, создав только здесь и существующий колорит бирюзы.
Он дополнительный с точностью к огню почвы, и он же отводит основную синюю, давая ей выход к смешанности зеленых. Аральское море подсказало художникам эту бирюзу.
Первое мое восклицание друзьям моим о куполе Шахи-Зинды было: - Да ведь это вода! Это заклинание бирюзой огненности пустыни!
В угадании этого цвета в мозаике и майолике и есть колористический гений Востока».

Ещё одна самаркандская достопримечательность – медресе Шердор, 1913 год.

Лев Буре. Двор медресе Шир-дор
Век спустя Шердор выглядит обновлённым и помолодевшим – реставраторы сделали своё дело.

Средняя Азия на полотнах авангардистов – это яркие цветовые пятна, резкие линии, ослепительный свет – одним словом, экзотика. Но даже в этих кубических нагромождениях нетрудно узнать горы, чинары, пирамидальные тополя и суету восточного базара.

Николай Карахан. Дорога в кишлак

Николай Карахан. Возвращение жнецов

Александр Волков. Продавцы фруктов
А вот совсем другая Азия – загадочная, тающая, ускользающая, в нежных тонах и тончайших цветовых переходах. Это картины из «степной» серии ещё одного саратовского художника – Павла Кузнецова.

Павел Кузнецов. В степи. Мираж
А этот натюрморт – и вовсе чистая фантазия: автор картины никогда не был в Средней Азии, зато, наверное, читал восточные сказки и поэмы)

Илья Машков. Натюрморт
И снова беспощадное азиатское солнце, резко очерчивающее лица и предметы – «Утро Киргизии». Позже тот же художник, Семён Чуйков, написал "Дочь Советской Киргизии", хорошо знакомую по репродукции в школьном учебнике.

Семён Чуйков. Утро Киргизии
И совсем другой свет, сквозящий сквозь виноградные листья, - импрессионизм, Павел Беньков. Эти картины написаны в Бухаре в 40-х годах прошлого века, но увидеть такие дворики до сих пор можно практически в любом узбекском городе.

Павел Беньков. Подруги

Павел Беньков. Дворик
Азия в лицах – узбеки Роберта Фалька и таджикские рабочие Льва Крамаренко.
Пёструю картину дополняют сюзане, керамика и глиняные игрушки - эта часть экспозиции напомнила мне ташкентские сувенирные магазинчики в старом городе.
По цвету можно определить, где сделана эта посуда. Сине-бирюзовая – из Ферганы и Хорезма.
Жёлто-зелёная – из Гиждувана и Бухары.
В выставочных залах прохладно и пусто, кроме меня, ещё пара любителей восточного колорита. Музейные тётушки сетуют, что время для такой роскошной выставки выбрали неподходящее – все нормальные люди в отпусках, на дачах и пляжах. А я очень благодарна нашим музейщикам – мне эти картины были необходимы именно сейчас, чтобы вспомнить одну забытую истину: то, что ты любишь, всегда с тобой.

Афиша обещала картины из собрания Русского музея, Третьяковской галереи, музея Востока и саратовского художественного музея имени Радищева, написанные в начале XX века в Средней Азии. Ещё раз оглянуться и сравнить, как почти сто лет назад выглядели те места, где мы побывали буквально две недели назад – за этим я и пришла на выставку. Совпадения не заставили себя ждать. Таким - совсем не туристическим - увидел Самарканд художник из Саратовской области Кузьма Петров-Водкин в 1921 году; вид ниже - июнь 2014-го.

Кузьма Петров-Водкин. Вид Самарканда

Петров-Водкин ездил в Среднюю Азию в составе научной экспедиции, которая исследовала памятники архитектуры. В путевом очерке «Самаркандия» он пишет, что больше всего полюбил один из них: «Вот Шахи-Зинда, та сразу, как только вынырнули ее купола в прорезах священной рощи, - она стала моей любимицей».

Кузьма Петров-Водкин. Шахи-Зинда
Петрова-Водкина поразило то же самое, что до сих пор привлекает сюда туристов, и художник пытается разгадать цветовую загадку этих мест:
«Небо я видел во все часы суток...
Этот переплет ультрамарина, сапфира, кобальта огнит почву, скалы, делая ничтожной зеленцу растительности, вконец осеребряя ее, - получается географический колорит страны в этих двух антиподах неба и почвы. Это и дает в Самаркандии ощущение зноя, жара, огня под чашей неба.
Человеку жутко между этими цветовыми полюсами, и восточное творчество разрешило аккорд, создав только здесь и существующий колорит бирюзы.
Он дополнительный с точностью к огню почвы, и он же отводит основную синюю, давая ей выход к смешанности зеленых. Аральское море подсказало художникам эту бирюзу.
Первое мое восклицание друзьям моим о куполе Шахи-Зинды было: - Да ведь это вода! Это заклинание бирюзой огненности пустыни!
В угадании этого цвета в мозаике и майолике и есть колористический гений Востока».

Ещё одна самаркандская достопримечательность – медресе Шердор, 1913 год.

Лев Буре. Двор медресе Шир-дор
Век спустя Шердор выглядит обновлённым и помолодевшим – реставраторы сделали своё дело.

Средняя Азия на полотнах авангардистов – это яркие цветовые пятна, резкие линии, ослепительный свет – одним словом, экзотика. Но даже в этих кубических нагромождениях нетрудно узнать горы, чинары, пирамидальные тополя и суету восточного базара.

Николай Карахан. Дорога в кишлак

Николай Карахан. Возвращение жнецов

Александр Волков. Продавцы фруктов
А вот совсем другая Азия – загадочная, тающая, ускользающая, в нежных тонах и тончайших цветовых переходах. Это картины из «степной» серии ещё одного саратовского художника – Павла Кузнецова.

Павел Кузнецов. В степи. Мираж
А этот натюрморт – и вовсе чистая фантазия: автор картины никогда не был в Средней Азии, зато, наверное, читал восточные сказки и поэмы)

Илья Машков. Натюрморт
И снова беспощадное азиатское солнце, резко очерчивающее лица и предметы – «Утро Киргизии». Позже тот же художник, Семён Чуйков, написал "Дочь Советской Киргизии", хорошо знакомую по репродукции в школьном учебнике.

Семён Чуйков. Утро Киргизии
И совсем другой свет, сквозящий сквозь виноградные листья, - импрессионизм, Павел Беньков. Эти картины написаны в Бухаре в 40-х годах прошлого века, но увидеть такие дворики до сих пор можно практически в любом узбекском городе.

Павел Беньков. Подруги

Павел Беньков. Дворик
Азия в лицах – узбеки Роберта Фалька и таджикские рабочие Льва Крамаренко.
Пёструю картину дополняют сюзане, керамика и глиняные игрушки - эта часть экспозиции напомнила мне ташкентские сувенирные магазинчики в старом городе.
По цвету можно определить, где сделана эта посуда. Сине-бирюзовая – из Ферганы и Хорезма.
Жёлто-зелёная – из Гиждувана и Бухары.
В выставочных залах прохладно и пусто, кроме меня, ещё пара любителей восточного колорита. Музейные тётушки сетуют, что время для такой роскошной выставки выбрали неподходящее – все нормальные люди в отпусках, на дачах и пляжах. А я очень благодарна нашим музейщикам – мне эти картины были необходимы именно сейчас, чтобы вспомнить одну забытую истину: то, что ты любишь, всегда с тобой.

Читайте также
Будет интересно