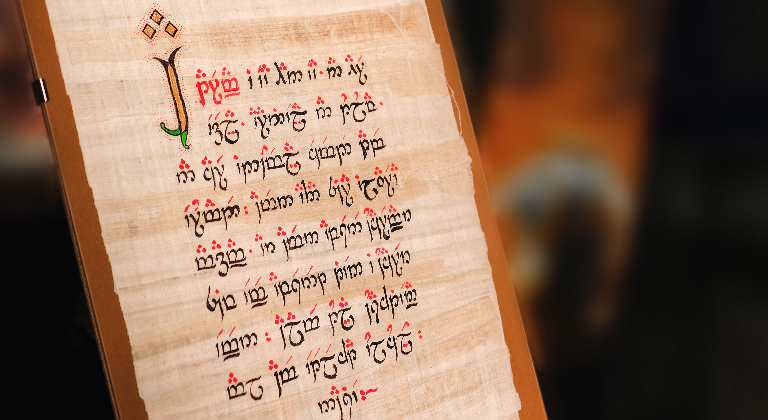Зимнее волшебство Кольского полуострова

Идея съездить на север зимой давно обдумывалась, а Мурманская область является самым доступным российским севером в отношении развитости транспортной сети. И волшебство настоящей снежной зимы и полярной ночи проще всего посмотреть именно на Кольском. Ведь в более южной Карелии и Беломорских землях полярная ночь не так темна, а в соседней Норвегии и ее скалистых островах Гольфстрим слишком силен, и зима мягкая и не такая снежная.
Помимо освоения нового направления, хотелось еще раз проникнуться таинством северного сияния, и, не смотря на то, что в северной Европе ландшафты и инфраструктура к съемке сияний располагают более всего, отправиться на отечественную часть европейского Севера подтолкнуло мое геологическое образование. На Кольском полуострове, недалеко от границы с Норвегией, в Печенгском районе, стоит один из горно-обогатительных комбинатов «Норильского Никеля». С еще довоенных времен там добывают медно-никелевую руду, весьма необходимую современной цивилизации.

Основным же местом нашего базирования являлся город Заполярный. Основанный геологами в 1956 году для разработки открытого после войны Ждановского медно-никелевого месторождения и отстроенный трестом «Печенганикель», Заполярный является самым населенным и позитивным в Печенгском районе. Многие улицы освещены, повсюду заметна людская суета, а люди улыбчивы и доброжелательны. В супермаркете очереди, в автобусе нет сидячих мест, но как ни странно, на улицах нет праздно шатающихся граждан, что видимо обязывает весьма снежной и ветреной зиме.
Хотя, возможно, активность населения была подкреплена новогодними настроениями, но тем не менее, город производил положительные впечатления. Местами озадачивали реплики типа «Нашли где снимать, лучше бы в теплые края поехали», говорящие о пессимистичных настроениях, местами наблюдаемые в обществе. Но это не сильно удивляет, ведь по рассказам горожан, многие приехали сюда в надежде заработать, а в итоге в жизни мало что поменялось, но зато прибавился едкий привкус местной добывающей промышленности.

Встречались и довольно интересные люди, переехавшие из неблагополучного Донбасса почему то именно на Север, или желающие, например, посетить заброшенную Припять. Но при этом они не признавали красоты, окружающую их в данный момент. Ведь вдалеке от комбината и городской подсветки, в тундре, можно встретить природу во всей своей красе и первозданности. Гладь наполненных семгой бесчисленных озер, берега которых летом украшены разноцветными от лишайников камушками, зимой укрывается белоснежными покрывалами, над которыми в особо морозные ночи светится северное сияние. Скалистая тундра, покрытая местами небольшими перелесками, покрывается весной зеленью и цветами, а осенью раскрашивается неимоверно яркими красками. Возможно, многим может наскучить жить в бесперспективной экономической обстановке, но хочется надеяться, что именно близость дикой природы не дает людям так просто принять решение покинуть эти своеобразные края.

В Заполярном мы встречали Новый год, наблюдали особенности и уклад местной жизни, поэтому и съемка северного сияния отчасти пришлась на около городскую местность. Ведь сияния весьма не просто прогнозируются для локальной площади, особенно если они не сильные, поэтому отчасти при их поиске приходилось действовать наугад. Основным минусом такого подхода оказалась сильная городская засветка, от которой приходилось отбегать довольно далеко.
Не хотелось упускать из виду и второй в районе по населению поселок Никель, являющийся также административным центром Печенгского района. Экономика поселка, также как и в Заполярном, основывается на добывающем одноименный металл предприятии. Однако, в отличие от Заполярного, Никель выглядит более молодым, есть квартал с 9-этажными «высотками», и с высоты соседней сопки выглядит более современно. Но на заднем плане все также дымят трубы, которые хоть и смотрятся эффектно в предрассветной тундре, но все также несут вредные выхлопы на жилую часть поселка.

Однако рядом с промышленным поселком и его дымящими трубами находится ледниковое озеро Куэтсъярви, куда с юга впадает небольшая река Шуонийоки. В 5 км выше ее устья находятся несколько небольших водопадов, образованных на ступенчатых уступах реки. Удивительно смотрится, когда замерзшая почти по всей поверхности река, бесшумно протекающая на равнине, вдруг с грохотом вырывается из подо льда и с брызгами срывается вниз, а скоро успокоившись, вновь прячется под лед. Извилистые речные меандры украшают еловые перелески, тонущие в сумеречных отсветах южного неба. Тишина, несмотря на близость автодороги, через некоторое время начинает немного давить, а потом затягивает в себя и мягко обволакивает все вокруг, создавая негу и желание наслаждаться моментом. И лишь сгущающиеся сумерки и переход розового неба в сиреневый, а затем и в темно серый заставляет покинуть это чудесное место.

В конце 60-х годов до поселка Никель дотянулась железнодорожная ветка из Мурманска. До последних лет эта железка считалась самой северной железной дорогой в мире. Есть еще пара ж/д веток, на Ямале у газовиков, и на Шпицбергене у угольщиков, но там нет пассажирского сообщения, что не ставит под удар «северность» железки до Никеля. Конечно, я бы не упустил шанс прокатиться на дизельном поезде и понаблюдать зарево невсходящего тут зимой солнца, но эту железку к большому сожалению закрыли в прошлом году за невостребованностью. Сей печальный для меня факт сообщили мне прямо на железнодорожном возкале города Заполярный. Поэтому пришлось довольствоваться съемкой самого ж/д вокзала и вплотную прилегающих к нему строений комбината «Печенганикель».

Вопреки моим ожиданиям, я испытал массу острых ощущений, прогуливаясь по территории этого огромного промышленного гиганта. Повсюду что то гудело, трещало, бабахало, из высоченных труб с многоэтажный дом периодически с громким свистом вырывались клубы белого и отнюдь не ароматного дыма, а где то в глубине комбината что то периодически звякало и ухало.
Все это действо вкупе со звуками и визуальной атмосферой, созданной разными источниками освещения, весьма напоминало вздохи и стоны огромного железного дракона. И стоящее вроде бы на одном месте огромное предприятие казалось живым, грозным и весьма пугающим. Подумалось, что в таком месте могут работать люди только со стальными нервами – нагромождение металлических конструкций, из которых местами со страшными звуками вырывались струи пара и каких то жидкостей вызывали лишь ассоциации с самыми зрелищными американскими фильмами. И меня никак не отпускала мысль, что декорации к «Терминатору» и всем «Чужим» создавались если и не здесь, то точно под впечатлением от общения с этим промышленным гигантом.

В планах также был лопарский, когда то временно финский, а сейчас российский портовый поселок Лиинахамари, у которого весьма насыщенное военное прошлое, а также интересное расположение на каменистых холмах на левом берегу Печенгской губы. Однако попасть туда сложно из-за весьма странной и несправедливой отечественной пограничной системы, которая обязывает всех россиян для допуска в Россию же оформлять пропуска или иметь печенгскую прописку. Но поскольку поездка была спланирована в последний момент, пропуска у нас не было, и мы решили уделить особое внимание относительно древней Печенге с не менее богатой историей и расположением в той же губе, в устье одноименной реки.
Скорее всего именно здесь, на побережье морского залива, в благоприятном для промысла месте, появились первые стоянки рыбаков, пришедших сюда в X-XI веке из Новгородских земель.

В поселке, с населением впятеро меньшим Заполярного, располагается множество военных, с соответствующей армии инфраструктурой. Значительная часть строений относятся к расквартированному здесь военному гарнизону, поэтому тут и там можно наблюдать заборы и покрывшихся снегом постовых. При въезде в Печенгу стоят различные памятники, как истории православной, так и военной. С XIX века здесь сохранилась пережившая две войны деревянная церквушка Печенгского монастыря, основное здание которой сгорело в 1944 году.
Жилые строения, от небольших домиков до классических пятиэтажек, стоят на возвышенности, вытянувшись вдоль левого берега реки Печенги, у самого места ее впадения в море в южной части Печенгской губы. В районе устья реки морской залив разбавляется пресной водой и замерзает.
После прихода ледостава и снижения уровня воды, образующийся у берега лед постепенно ложится на землю, местами ломаясь и образуя небольшие торосы. Прибрежные камни выползают из подо льда как угрюмые растения, вытягиваясь на сумеречный свет между льдинками. И после снегопада замерзшая часть залива выглядит так, будто кто то гигантскими руками раскидал по белоснежному полю огромные валуны.

Снегопад в Печенгском районе случался довольно часто, но был настолько непредсказуем, что поначалу даже сложно было спрогнозировать съемку. Иногда, выглянув в окно, было вроде бы понятно, что идущий сплошной стеной снег зарядил надолго, и без просветов в небе на улице ловить нечего. Однако, по прошествии всего каких то 15-20 минут, небо могло запросто разорваться, и озарить сугробы розовым рассветно-закатным светом. Казалось бы, чистое небо, всего с парочкой мелких облаков, не должно снова зарядить осадками, но нет, в любой момент все могло повториться снова. Причиной столь интенсивных и непредсказуемых климатических порывов с осадками был местный морской климат, который весьма стремительно мог как принести темные тучи с моря, так и унести их обратно. Такой характер погоды чувствовался повсеместно, однако непосредственно вблизи моря был особенно резким.
Обратный путь с залива пролегал через старую узкоколейку, построенную для транспортировки на материк грузов с морского порта Печенгской губы. Ныне рентабельность ветки сохранилась только для транспортировки руды из Никеля, поэтому печенгская узкоколейка постепенно врастает в землю и покрывается снежными сугробами.
Помимо всего настоящего, также было интересно взглянуть на историческую сторону одного из древнейших российских северных регионов, освоенных русскими около тысячи лет назад. С тех времен мало что сохранилось, но увидеть некоторые свидетельства пятисотлетней давности возможность еще была. Территория Печенгского района ранее входила в состав Российской империи, и с начала 20-х годов прошлого века по результатам первой Советско-финской войны являлась Петсамской областью Финляндии, но по окончании Второй мировой войны перешла к Советскому Союзу, и финское Петсамо снова переименовали в Печенгу. Однако добывать никель в этом районе начали еще финны в тогдашнем Петсамо, заложив тем самым уже в 30-е годы стратегический интерес к этому району.
Следы коренного лопарского народа сохранились прежде всего в названиях поселков и рек, хотя в советское время некоторые из них были переименованы. Так, до нынешних дней дошло название поселка Луостари, что произошло от финского Petsamon luostari, означающее «печенгский монастырь». В начале XVI века здесь на месте Успенской пустыни святой Трифон Печенгский основал мужской Трифонов Печенгский монастырь, являющийся древнейшим на Кольском полуострове и одним из самых северных в мире.

К сожалению, история не донесла до нас первоначальный облик монастыря. В конце XVI века его разграбили и сожгли финны, после чего монастырь был перенесен севернее, в устье Печенги, но после очередного разорения было принято решение отстроить его на востоке, в устье реки Колы. Простояв там до середины XVIII века, он был упразднен. Позднее, в конце XIX века, Святейший Синод восстановил монастырь в устье Печенги, но он снова был разорен после революции и сожжен во время Второй мировой войны. В 90-х годах его деятельность возобновили, но он вновь сгорел в 2007 году. Последним решением было восстановить монастырь на его первоначальном месте, возле могилы Трифона и мучеников, погибших в конце XVI века. Поэтому нынешний монастырь хоть и имеет облик начала XX века, но построен был совсем недавно, всего лишь в 2008 году.
Мы приехали туда днем, когда небо светлеет до сумерек всего на 4 ч, и немного изучили местность. Округа тут, мягко говоря, не очень людная. Сам монастырь расположен в месте впадения реки Намайоки в Печенгу, а пятиэтажки самого Луостари ютятся на невысокой надпойменной террасе, откуда на долину реки Печенги открывается хороший обзор. Обнесенный большой и широкой деревянной стеной, издалека монастырь выглядит как небольшой самостоятельный городок. Несмотря на новострой, монастырь смотрится весьма аутентично, поэтому решено было вернуться сюда еще раз, но уже после полуночи.

Прибыв в Луостари в полной темноте, мы обнаружили, что монастырь, казавшийся безлюдным днем, ночью выглядит весьма зловеще. Лишь пара фонарей освещали его территорию, где то вдалеке слышался вой собак (или не собак), а снег под ногами хрустел непривычно громко. Признаков присутствия людей не наблюдалось. Но такую мрачноватую атмосферу прервало вдруг начавшее играть в небе полярное сияние! Оно не давало себя толком снять, тотчас же исчезая после появления, но не переставало вспыхивать над разными монастырскими строениями.
Возможно, от звуков, производимых нами в процессе фотосъемки, вскоре был разбужен кто то из служителей монастыря. В окошке домика появился свет, чем оживил пейзаж и напрочь прогнал некомфортные ощущения пустоты. Погоняв зеленые хвосты по небу еще немного, уже ближе к утру, мы, уставшие от распахивания сугробов, наконец то отправились отдыхать.

Также Луостари знаменито тем, что после Второй мировой в нем была образована база ВВС Северного флота, где в конце 50-х проходил службу Юрий Гагарин. Позже территорию базы ВВС выделили в отдельное поселение и переименовали в Корзуново, в честь Героя Советского Союза Ивана Егоровича Корзунова. Ныне поселение полузаброшено, большинство домов опустели и жизнь теплится лишь в одном из дворов.
В память о былых воздушных достижениях на главной улице поселка был установлен самолет Ан-2 и каменные бюсты летчиков-героев. Пустые глазницы окон ближайших пятиэтажек тонули в темноте, и памятное место приобрело несколько зловещий вид, чему также поспособствовала очередная снежная буря.

Последнюю ночь в городе Заполярный было решено провести в ожидании сполохов северного сияния, и ради этого мы забрались на сопку с городской телевышкой. Оттуда открывался хороший обзор почти во все стороны. Померзнув там на ледяном ветру несколько часов, сияния мы так и не дождались. Зато ветер пригнал с комбината очередное облачко, которое, зависнув над городом, удачно подсветилось городской иллюминацией. Огорчает только, что облачко это доносит на большие расстояния приторный запах выбросов диоксида серы, прозванных за сладковатый привкус «карамелькой». Весьма символично, что последней ночью мы возвращались домой в Заполярный по тропе Здоровья, пролегающей рядом с ближайшим к городу озером.

Исследовав Печенгский район настолько, насколько позволили ноги и отпущенное в посленовогодние праздники время, мы передислоцировались в славный город-герой Мурманск! Этому прекрасному портовому городу, а к портам я испытываю какое то особое влечение, мы не могли не уделить особого внимания. Пожалуй, Мурманск, как и другой большой город с длинной историей, заслуживает отдельного повествования, да и невозможно посмотреть все достопримечательности за пару дней, поэтому мы решили посетить самые знаковые для Мурманска места, и за оставшееся время прогуляться по Кольскому заливу.
Долго можно рассказывать про исторические места незамерзающего Кольского залива, но внимание было решено уделить все же местным инженерным сооружениям – мостам. На западный берег залива теперь можно попасть двумя путями – через город Колу и по новому мосту в южной части Мурманска.

Кольский мост хоть и небольшой, но красивый – дугообразный, выполненный в классическом стиле середины XX века, он соединяет Колу с западными землями. Город Кола расположен на стрелке, в устье двух рек, Туломы и Колы, в южной оконечности Кольского залива. Старый же мост расположен непосредственно через реку Тулому.
А в устье Колы над рекой проложено целых два моста, ж/д и автомобильный, но их масштаб и внешний вид не представлял особого интереса. По этим мостам проложена дорога до самой Норвегии, и вероятно этими путями происходило промышленное освоение самых северо-западных районов страны.
Чтобы разгрузить не рассчитанный на высокий трафик Кольский мост, да и сам город Колу, в начале 90-х годов было решено построить новый мост через залив, ближе к Мурманску. Строительство, как водится, затянулось, но несмотря на это, мост был сдан осенью 2005 года. Его длина составила целых 2,5 км и он стал самым длинным мостом за Полярным кругом. Однако данный статус продержался у него недолго, перейдя в 2009 году к 4-х километровому мосту на Ямале.

Расположенная на южной окраине Мурманска Южная ТЭЦ явилась своего рода достопримечательностью, извергая из труб подсвеченные городом клубы дыма и пара. Наблюдать как ветер рвет в клочья вырывающиеся из труб огромные рыжие сполохи было особенно завораживающе, и хотелось непременно запечатлеть это действо с разных точек наблюдения. Конечно, всего пара труб на фоне большого города не передавала ощущений сродни комбинату в Заполярном, но выглядела на фоне ночного неба весьма эффектно.

Рассматривать же сам Мурманск было решено пешком, поэтому был пройден всего один маршрут, в ходе которого удалось посмотреть на наш взгляд самое интересное. Одним из символов современного Мурманска является памятник Алеша, установленный Защитникам Советского Заполярья. Он является одним из самых высоких в мире, его высота составляет 42,5 метра, и его видно со многих точек города. Также визитной карточкой Мурманска в 2002 году стала мемориальная башня-маяк, расположенная на смотровой площадке вместе с рубкой подлодки Курск, в честь погибших моряков-подводников.

Отдельные впечатления были получены от незабываемой прогулки по центральным улицам города, которые к новогодним праздникам были украшены неимоверным количеством светящихся украшений. На всех столбах, деревьях и даже кустах мигали и переливались различные гирлянды из цветов, рыбок и птичек.
Центральная площадь, именуемая Пять Углов в честь пяти сходившихся здесь раньше дорог, была украшена ярче всего. Помимо разноцветной иллюминации зданий, на ней располагалась самая высокая новогодняя елка на полуострове.

В последнее перед отлетом весьма морозное утро довелось увидеть тонущий в клубах тумана старый железнодорожный вокзал и посетить знаменитый атомоход Ленин, который в особом представлении не нуждается.

На этом наше путешествие по северо-западу Мурманской области закончилось, и мы нехотя отправились по домам.
Помимо освоения нового направления, хотелось еще раз проникнуться таинством северного сияния, и, не смотря на то, что в северной Европе ландшафты и инфраструктура к съемке сияний располагают более всего, отправиться на отечественную часть европейского Севера подтолкнуло мое геологическое образование. На Кольском полуострове, недалеко от границы с Норвегией, в Печенгском районе, стоит один из горно-обогатительных комбинатов «Норильского Никеля». С еще довоенных времен там добывают медно-никелевую руду, весьма необходимую современной цивилизации.

Основным же местом нашего базирования являлся город Заполярный. Основанный геологами в 1956 году для разработки открытого после войны Ждановского медно-никелевого месторождения и отстроенный трестом «Печенганикель», Заполярный является самым населенным и позитивным в Печенгском районе. Многие улицы освещены, повсюду заметна людская суета, а люди улыбчивы и доброжелательны. В супермаркете очереди, в автобусе нет сидячих мест, но как ни странно, на улицах нет праздно шатающихся граждан, что видимо обязывает весьма снежной и ветреной зиме.
Хотя, возможно, активность населения была подкреплена новогодними настроениями, но тем не менее, город производил положительные впечатления. Местами озадачивали реплики типа «Нашли где снимать, лучше бы в теплые края поехали», говорящие о пессимистичных настроениях, местами наблюдаемые в обществе. Но это не сильно удивляет, ведь по рассказам горожан, многие приехали сюда в надежде заработать, а в итоге в жизни мало что поменялось, но зато прибавился едкий привкус местной добывающей промышленности.

Встречались и довольно интересные люди, переехавшие из неблагополучного Донбасса почему то именно на Север, или желающие, например, посетить заброшенную Припять. Но при этом они не признавали красоты, окружающую их в данный момент. Ведь вдалеке от комбината и городской подсветки, в тундре, можно встретить природу во всей своей красе и первозданности. Гладь наполненных семгой бесчисленных озер, берега которых летом украшены разноцветными от лишайников камушками, зимой укрывается белоснежными покрывалами, над которыми в особо морозные ночи светится северное сияние. Скалистая тундра, покрытая местами небольшими перелесками, покрывается весной зеленью и цветами, а осенью раскрашивается неимоверно яркими красками. Возможно, многим может наскучить жить в бесперспективной экономической обстановке, но хочется надеяться, что именно близость дикой природы не дает людям так просто принять решение покинуть эти своеобразные края.

В Заполярном мы встречали Новый год, наблюдали особенности и уклад местной жизни, поэтому и съемка северного сияния отчасти пришлась на около городскую местность. Ведь сияния весьма не просто прогнозируются для локальной площади, особенно если они не сильные, поэтому отчасти при их поиске приходилось действовать наугад. Основным минусом такого подхода оказалась сильная городская засветка, от которой приходилось отбегать довольно далеко.
Не хотелось упускать из виду и второй в районе по населению поселок Никель, являющийся также административным центром Печенгского района. Экономика поселка, также как и в Заполярном, основывается на добывающем одноименный металл предприятии. Однако, в отличие от Заполярного, Никель выглядит более молодым, есть квартал с 9-этажными «высотками», и с высоты соседней сопки выглядит более современно. Но на заднем плане все также дымят трубы, которые хоть и смотрятся эффектно в предрассветной тундре, но все также несут вредные выхлопы на жилую часть поселка.

Однако рядом с промышленным поселком и его дымящими трубами находится ледниковое озеро Куэтсъярви, куда с юга впадает небольшая река Шуонийоки. В 5 км выше ее устья находятся несколько небольших водопадов, образованных на ступенчатых уступах реки. Удивительно смотрится, когда замерзшая почти по всей поверхности река, бесшумно протекающая на равнине, вдруг с грохотом вырывается из подо льда и с брызгами срывается вниз, а скоро успокоившись, вновь прячется под лед. Извилистые речные меандры украшают еловые перелески, тонущие в сумеречных отсветах южного неба. Тишина, несмотря на близость автодороги, через некоторое время начинает немного давить, а потом затягивает в себя и мягко обволакивает все вокруг, создавая негу и желание наслаждаться моментом. И лишь сгущающиеся сумерки и переход розового неба в сиреневый, а затем и в темно серый заставляет покинуть это чудесное место.

В конце 60-х годов до поселка Никель дотянулась железнодорожная ветка из Мурманска. До последних лет эта железка считалась самой северной железной дорогой в мире. Есть еще пара ж/д веток, на Ямале у газовиков, и на Шпицбергене у угольщиков, но там нет пассажирского сообщения, что не ставит под удар «северность» железки до Никеля. Конечно, я бы не упустил шанс прокатиться на дизельном поезде и понаблюдать зарево невсходящего тут зимой солнца, но эту железку к большому сожалению закрыли в прошлом году за невостребованностью. Сей печальный для меня факт сообщили мне прямо на железнодорожном возкале города Заполярный. Поэтому пришлось довольствоваться съемкой самого ж/д вокзала и вплотную прилегающих к нему строений комбината «Печенганикель».

Вопреки моим ожиданиям, я испытал массу острых ощущений, прогуливаясь по территории этого огромного промышленного гиганта. Повсюду что то гудело, трещало, бабахало, из высоченных труб с многоэтажный дом периодически с громким свистом вырывались клубы белого и отнюдь не ароматного дыма, а где то в глубине комбината что то периодически звякало и ухало.
Все это действо вкупе со звуками и визуальной атмосферой, созданной разными источниками освещения, весьма напоминало вздохи и стоны огромного железного дракона. И стоящее вроде бы на одном месте огромное предприятие казалось живым, грозным и весьма пугающим. Подумалось, что в таком месте могут работать люди только со стальными нервами – нагромождение металлических конструкций, из которых местами со страшными звуками вырывались струи пара и каких то жидкостей вызывали лишь ассоциации с самыми зрелищными американскими фильмами. И меня никак не отпускала мысль, что декорации к «Терминатору» и всем «Чужим» создавались если и не здесь, то точно под впечатлением от общения с этим промышленным гигантом.

В планах также был лопарский, когда то временно финский, а сейчас российский портовый поселок Лиинахамари, у которого весьма насыщенное военное прошлое, а также интересное расположение на каменистых холмах на левом берегу Печенгской губы. Однако попасть туда сложно из-за весьма странной и несправедливой отечественной пограничной системы, которая обязывает всех россиян для допуска в Россию же оформлять пропуска или иметь печенгскую прописку. Но поскольку поездка была спланирована в последний момент, пропуска у нас не было, и мы решили уделить особое внимание относительно древней Печенге с не менее богатой историей и расположением в той же губе, в устье одноименной реки.
Скорее всего именно здесь, на побережье морского залива, в благоприятном для промысла месте, появились первые стоянки рыбаков, пришедших сюда в X-XI веке из Новгородских земель.

В поселке, с населением впятеро меньшим Заполярного, располагается множество военных, с соответствующей армии инфраструктурой. Значительная часть строений относятся к расквартированному здесь военному гарнизону, поэтому тут и там можно наблюдать заборы и покрывшихся снегом постовых. При въезде в Печенгу стоят различные памятники, как истории православной, так и военной. С XIX века здесь сохранилась пережившая две войны деревянная церквушка Печенгского монастыря, основное здание которой сгорело в 1944 году.
Жилые строения, от небольших домиков до классических пятиэтажек, стоят на возвышенности, вытянувшись вдоль левого берега реки Печенги, у самого места ее впадения в море в южной части Печенгской губы. В районе устья реки морской залив разбавляется пресной водой и замерзает.
После прихода ледостава и снижения уровня воды, образующийся у берега лед постепенно ложится на землю, местами ломаясь и образуя небольшие торосы. Прибрежные камни выползают из подо льда как угрюмые растения, вытягиваясь на сумеречный свет между льдинками. И после снегопада замерзшая часть залива выглядит так, будто кто то гигантскими руками раскидал по белоснежному полю огромные валуны.

Снегопад в Печенгском районе случался довольно часто, но был настолько непредсказуем, что поначалу даже сложно было спрогнозировать съемку. Иногда, выглянув в окно, было вроде бы понятно, что идущий сплошной стеной снег зарядил надолго, и без просветов в небе на улице ловить нечего. Однако, по прошествии всего каких то 15-20 минут, небо могло запросто разорваться, и озарить сугробы розовым рассветно-закатным светом. Казалось бы, чистое небо, всего с парочкой мелких облаков, не должно снова зарядить осадками, но нет, в любой момент все могло повториться снова. Причиной столь интенсивных и непредсказуемых климатических порывов с осадками был местный морской климат, который весьма стремительно мог как принести темные тучи с моря, так и унести их обратно. Такой характер погоды чувствовался повсеместно, однако непосредственно вблизи моря был особенно резким.
Обратный путь с залива пролегал через старую узкоколейку, построенную для транспортировки на материк грузов с морского порта Печенгской губы. Ныне рентабельность ветки сохранилась только для транспортировки руды из Никеля, поэтому печенгская узкоколейка постепенно врастает в землю и покрывается снежными сугробами.
Помимо всего настоящего, также было интересно взглянуть на историческую сторону одного из древнейших российских северных регионов, освоенных русскими около тысячи лет назад. С тех времен мало что сохранилось, но увидеть некоторые свидетельства пятисотлетней давности возможность еще была. Территория Печенгского района ранее входила в состав Российской империи, и с начала 20-х годов прошлого века по результатам первой Советско-финской войны являлась Петсамской областью Финляндии, но по окончании Второй мировой войны перешла к Советскому Союзу, и финское Петсамо снова переименовали в Печенгу. Однако добывать никель в этом районе начали еще финны в тогдашнем Петсамо, заложив тем самым уже в 30-е годы стратегический интерес к этому району.
Следы коренного лопарского народа сохранились прежде всего в названиях поселков и рек, хотя в советское время некоторые из них были переименованы. Так, до нынешних дней дошло название поселка Луостари, что произошло от финского Petsamon luostari, означающее «печенгский монастырь». В начале XVI века здесь на месте Успенской пустыни святой Трифон Печенгский основал мужской Трифонов Печенгский монастырь, являющийся древнейшим на Кольском полуострове и одним из самых северных в мире.

К сожалению, история не донесла до нас первоначальный облик монастыря. В конце XVI века его разграбили и сожгли финны, после чего монастырь был перенесен севернее, в устье Печенги, но после очередного разорения было принято решение отстроить его на востоке, в устье реки Колы. Простояв там до середины XVIII века, он был упразднен. Позднее, в конце XIX века, Святейший Синод восстановил монастырь в устье Печенги, но он снова был разорен после революции и сожжен во время Второй мировой войны. В 90-х годах его деятельность возобновили, но он вновь сгорел в 2007 году. Последним решением было восстановить монастырь на его первоначальном месте, возле могилы Трифона и мучеников, погибших в конце XVI века. Поэтому нынешний монастырь хоть и имеет облик начала XX века, но построен был совсем недавно, всего лишь в 2008 году.
Мы приехали туда днем, когда небо светлеет до сумерек всего на 4 ч, и немного изучили местность. Округа тут, мягко говоря, не очень людная. Сам монастырь расположен в месте впадения реки Намайоки в Печенгу, а пятиэтажки самого Луостари ютятся на невысокой надпойменной террасе, откуда на долину реки Печенги открывается хороший обзор. Обнесенный большой и широкой деревянной стеной, издалека монастырь выглядит как небольшой самостоятельный городок. Несмотря на новострой, монастырь смотрится весьма аутентично, поэтому решено было вернуться сюда еще раз, но уже после полуночи.

Прибыв в Луостари в полной темноте, мы обнаружили, что монастырь, казавшийся безлюдным днем, ночью выглядит весьма зловеще. Лишь пара фонарей освещали его территорию, где то вдалеке слышался вой собак (или не собак), а снег под ногами хрустел непривычно громко. Признаков присутствия людей не наблюдалось. Но такую мрачноватую атмосферу прервало вдруг начавшее играть в небе полярное сияние! Оно не давало себя толком снять, тотчас же исчезая после появления, но не переставало вспыхивать над разными монастырскими строениями.
Возможно, от звуков, производимых нами в процессе фотосъемки, вскоре был разбужен кто то из служителей монастыря. В окошке домика появился свет, чем оживил пейзаж и напрочь прогнал некомфортные ощущения пустоты. Погоняв зеленые хвосты по небу еще немного, уже ближе к утру, мы, уставшие от распахивания сугробов, наконец то отправились отдыхать.

Также Луостари знаменито тем, что после Второй мировой в нем была образована база ВВС Северного флота, где в конце 50-х проходил службу Юрий Гагарин. Позже территорию базы ВВС выделили в отдельное поселение и переименовали в Корзуново, в честь Героя Советского Союза Ивана Егоровича Корзунова. Ныне поселение полузаброшено, большинство домов опустели и жизнь теплится лишь в одном из дворов.
В память о былых воздушных достижениях на главной улице поселка был установлен самолет Ан-2 и каменные бюсты летчиков-героев. Пустые глазницы окон ближайших пятиэтажек тонули в темноте, и памятное место приобрело несколько зловещий вид, чему также поспособствовала очередная снежная буря.

Последнюю ночь в городе Заполярный было решено провести в ожидании сполохов северного сияния, и ради этого мы забрались на сопку с городской телевышкой. Оттуда открывался хороший обзор почти во все стороны. Померзнув там на ледяном ветру несколько часов, сияния мы так и не дождались. Зато ветер пригнал с комбината очередное облачко, которое, зависнув над городом, удачно подсветилось городской иллюминацией. Огорчает только, что облачко это доносит на большие расстояния приторный запах выбросов диоксида серы, прозванных за сладковатый привкус «карамелькой». Весьма символично, что последней ночью мы возвращались домой в Заполярный по тропе Здоровья, пролегающей рядом с ближайшим к городу озером.

Исследовав Печенгский район настолько, насколько позволили ноги и отпущенное в посленовогодние праздники время, мы передислоцировались в славный город-герой Мурманск! Этому прекрасному портовому городу, а к портам я испытываю какое то особое влечение, мы не могли не уделить особого внимания. Пожалуй, Мурманск, как и другой большой город с длинной историей, заслуживает отдельного повествования, да и невозможно посмотреть все достопримечательности за пару дней, поэтому мы решили посетить самые знаковые для Мурманска места, и за оставшееся время прогуляться по Кольскому заливу.
Долго можно рассказывать про исторические места незамерзающего Кольского залива, но внимание было решено уделить все же местным инженерным сооружениям – мостам. На западный берег залива теперь можно попасть двумя путями – через город Колу и по новому мосту в южной части Мурманска.

Кольский мост хоть и небольшой, но красивый – дугообразный, выполненный в классическом стиле середины XX века, он соединяет Колу с западными землями. Город Кола расположен на стрелке, в устье двух рек, Туломы и Колы, в южной оконечности Кольского залива. Старый же мост расположен непосредственно через реку Тулому.
А в устье Колы над рекой проложено целых два моста, ж/д и автомобильный, но их масштаб и внешний вид не представлял особого интереса. По этим мостам проложена дорога до самой Норвегии, и вероятно этими путями происходило промышленное освоение самых северо-западных районов страны.
Чтобы разгрузить не рассчитанный на высокий трафик Кольский мост, да и сам город Колу, в начале 90-х годов было решено построить новый мост через залив, ближе к Мурманску. Строительство, как водится, затянулось, но несмотря на это, мост был сдан осенью 2005 года. Его длина составила целых 2,5 км и он стал самым длинным мостом за Полярным кругом. Однако данный статус продержался у него недолго, перейдя в 2009 году к 4-х километровому мосту на Ямале.

Расположенная на южной окраине Мурманска Южная ТЭЦ явилась своего рода достопримечательностью, извергая из труб подсвеченные городом клубы дыма и пара. Наблюдать как ветер рвет в клочья вырывающиеся из труб огромные рыжие сполохи было особенно завораживающе, и хотелось непременно запечатлеть это действо с разных точек наблюдения. Конечно, всего пара труб на фоне большого города не передавала ощущений сродни комбинату в Заполярном, но выглядела на фоне ночного неба весьма эффектно.

Рассматривать же сам Мурманск было решено пешком, поэтому был пройден всего один маршрут, в ходе которого удалось посмотреть на наш взгляд самое интересное. Одним из символов современного Мурманска является памятник Алеша, установленный Защитникам Советского Заполярья. Он является одним из самых высоких в мире, его высота составляет 42,5 метра, и его видно со многих точек города. Также визитной карточкой Мурманска в 2002 году стала мемориальная башня-маяк, расположенная на смотровой площадке вместе с рубкой подлодки Курск, в честь погибших моряков-подводников.

Отдельные впечатления были получены от незабываемой прогулки по центральным улицам города, которые к новогодним праздникам были украшены неимоверным количеством светящихся украшений. На всех столбах, деревьях и даже кустах мигали и переливались различные гирлянды из цветов, рыбок и птичек.
Центральная площадь, именуемая Пять Углов в честь пяти сходившихся здесь раньше дорог, была украшена ярче всего. Помимо разноцветной иллюминации зданий, на ней располагалась самая высокая новогодняя елка на полуострове.

В последнее перед отлетом весьма морозное утро довелось увидеть тонущий в клубах тумана старый железнодорожный вокзал и посетить знаменитый атомоход Ленин, который в особом представлении не нуждается.

На этом наше путешествие по северо-западу Мурманской области закончилось, и мы нехотя отправились по домам.
Читайте также