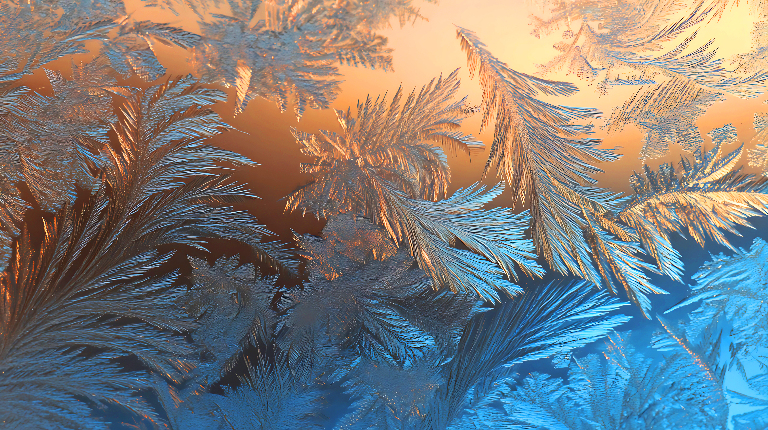Мышиные фишки города Мышкина
Что для меня, казахстанца, этот городок, про который даже не каждый россиянин слышал? Точка на карте, да и то на очень подробной...
А вот пишу, не могу удержаться, потому что очаровал меня российский Мышкин донельзя. Год назад еще повезло мне прокатиться по Золотому кольцу, и был там в меню этот небольшой городок. Надо было всего лишь продлить поездку на два дня, доплатить немного. Но подумал тогда: а что он в сравнении с Суздалем или Владимиром? Маленький купеческий городок, меньше нашего Костаная, что там делать?

Как же я ошибался! Минувшим летом опять же поездка по России, на этот раз на круизном теплоходе, и опять в самом конце этот самый Мышкин.

Когда мы выходили на пристань мышиной столицы, две мысли более всего терзали голову. Что тут смотреть, если весь городок и с теплохода насквозь виден? И где бы нам купить вяленой или копченой рыбы в предвидении скорой встречи с родственниками? На Валааме и в Кижах это пахучее счастье было таким дорогим, что рука не поднялась потратить отпускные деньги. На Мышкин была последняя надежда, хотя и слабая. Такие вот проблемы.

Оказалось, не проблемы это, а одно удовольствие. С рыбой все решилось само собой. За одним с нами столиком в ресторане теплохода оказалась женщина, у которой мама по сей день живет в этом самом городке. А на пристани подруга детства много лет торгует вожделенной рыбой. Один звонок на пристань, и нам было обещано все, в ассортименте и по божеской цене. Уже под конец пешей экскурсии мы бросили якоря у торговых рядов и от души затарились и жерехом, и воблой, и даже одной стерлядкой.

На лотках напротив жена присмотрела себе очень удобные и мягкие валеночки. При наших-то морозах и буранах лучше обуви нет. Оказывается, здесь не только мышиные музеи и дворцы, но и валенки тоже в почете. И пока она примеряла это валяное удобство, я подошел к еще одному рыбному прилавку. Мужик торговал вяленую рыбу, судя по всему, им же пойманную и засушенную. Не знаю почему, но покупателей у него было не густо. Может быть, всю торговлю ему перебивали богатые копченые развалы напротив. А может быть, просто не умеет человек продавать. Я подошел. Он с надеждой изобразил торговца. Я присмотрелся и понял: надо брать.
- Как зовется рыбка?
- Чехонь, бери, недорого, сам ловлю.

О, это редкое, а для казахстанца вообще недостижимое имя: чехонь. Не пробовал, но читал и отложилось в сознании: сначала чехонь, а потом уже вобла. Если ставить их в вяленую табель о рангах. Конечно же купили, и потом в Москве вся мужская часть семьи с треском снимала чешую, смотрела сквозь рыбешку на солнце и восхищались ароматом. К пиву, оказывается, нет ничего лучше. Но это было потом, в конце недолгого, всего на половину дня знакомства с удивительным городком. А вначале было слово, Точнее, слово, песни и танцы.

Прямо с пристани наша соседка умчалась к маме, полоть огуречные грядки, а мы изготовились к поездке по городку. Но гидесса огорошила всех сразу. Ездить тут некуда и не на чем, все интересное пешком обойдем, а пока получите мышиный привет. И вот уже на пристани стоит ведерный самовар, и две здоровенные мыши с меня ростом пляшут вокруг него со старой песенкой на свой мышиный лад: «У самовара я и моя Мыша». Детвора визжала от восторга и норовила потрогать мышей руками, убедиться, что правда живые.

А потом мы пошли по городку, и чем дальше мы заходили в глубь его ухоженных улочек с резными деревянными домами, тем больше мне хотелось тут остаться еще хотя бы на недельку. Вот же прекрасное место, где можно с удовольствием пожить, если б была работа и заработок. Тихо, никаких тебе пробок, Волга видна почти с любой улицы, никто никуда не спешит. Мы брели сквозь уют городка, у здания администрации я заметил двух тетушек, которые сцепились языками. Когда через полтора часа мы шли обратно, те же тетушки стояли на том же месте и разговору не видно было конца.

Где-то в интернете прочитал, что вроде бы этот самый Мышкин выведен Александром Николаевичем Островским в драме «Гроза». Ну, как же помню, луч света в темном царстве, Дикой, Кабаниха, Катерина. Но чем сильнее мы вникали в историю городка, тем больше у меня сомнений было по поводу «Грозы». Главным образом по той причине, что городок-то невелик, неспешен, но темным царством здесь и близко не пахло. Славен он всегда был своими купцами, а те хоть и по природе своей консервативны, никакого застоя в делах не терпели. Один лишь пример ретроградства сумел я откопать в истории: городской голова купец первой гильдии Тимофей Васильевич Чистов отказался проводить в город железную дорогу. Не понравилась ему мазутная вонь, суета, гудки паровозов.

Но и по Волге отправляли они в столицу столько всякого товару, что поверить трудно. Одних яиц около шести миллионов штук. Я так понимаю, в год. Но ведь шесть миллионов! Их же надо было где-то скупить, собрать, упаковать. А сам Чистов, будучи избран городским головой, правил городом на честной выборной основе 27 лет. Это как же надо работать для простых горожан и своих товарищей купцов, чтобы тебя 27 раз выбирали мэром? Кстати, вот то решение насчет железной дороге принимал он не самочинно, а вполне демократично. Референдума не было, но опрос всех горожан он провел и только потом заявил: обойдемся без железки!

Нас конечно же сводили на его мельницу, которая прослужила городу до семидесятых застойных годов. И сейчас служит, как одна из самых смешных фишек для всех экскурсий. Да вот опишу, как оно было. Подходим к бревенчатому сооружению, гидесса заглядывает во внутрь с вопросом: мыши на месте. Мы, полагая, что это какой-то заскок экскурсовода, втягиваемся в сумрачное помещение. Гидесса толкует, что надо плотно закрыть двери, чтобы ни одна мышь не проскочила. И начинает рассказ про то, как тут мололи, кому и почем. Народ расслабляется, начинает скучать и пробираться поближе к выходу, не обращая внимания на опять же громадных кукол в виде мышей по углам. «А тут, - говорит она, - мололи зерно тем, кто принес немного, ведерко или того меньше».

Да, вот она, мельничка, совсем небольшая, рядом притулились две мыши. И вдруг эти самые мыши встают, начинают меж собой разговор и вертят ручки мельницы. Женщины в крик с перепугу, мужики хохочут, и тогда становится понятен вопрос: мыши на месте? Конечно на месте и всегда готовы разыграть свою сценку.

От купца Чистов много чего осталось городу. И мельница, и склады, и мосты, кинутые через ручьи и лога еще до революции, и дом, в котором он жил. В удовольствие жил, балы устраивали не хуже столичных, и особ императорской фамилии принимал. Был он из крепостных крестьян графа Шереметева, но остался в памяти хозяином. Заступив на пост, первым делом взялся он за экономию и очень преуспел в этом занятии. Да вот любопытный пример. В городской больнице обнаружил он бесхозные оловянные миски, которые тут же распорядился продать (5 рублей). В пожарке боевой конь от старости преставился, Чистов скомандовал: шкуру снять и продать (4 рубля). В больничном саду скосили сорняки, высушили и продали как сено.

И так во всем. За время его правления выстроено было в Мышкине около половины всего числа каменных домов и немало прочных деревянных, но опять же на каменном фундаменте. Нередко Тимофей Васильевич не задумываясь пускал на нужды города собственные средства. И не всегда считал нужным вернуть свое кровное назад. А когда сам отходил в мир иной, оставил завещание, по которому обязал своих наследников продать его домину за чисто символические деньги родному городу. В доме этом устроили больницу и прослужила она народу опять же до самых семидесятых годов.

Мы прошли вдоль всего этого дома, зашли в храм, где молился и сам хозяин города, и в музеи заходили, и в картинную галерею, только театр миновали, днем гуляли, не время для спектаклей. Кстати, о театрах. В городе Мышкине одна больница, одна школа, одно училище, одна картинная галерея, один фонтан, и лишь театров — четыре. Правда, все самодеятельные, но, говорят, очень высокого уровня.

В характере мышкинцев: вроде и живут не торопясь, но никто не попрекнет, что бездельники. Всегда, во все времена, отличались делом и хваткой. Сувениров на пристани и повсюду в городе, как на лотках у Красной площади. Музеев по всему городку открыли всяких — и музей валенка, и русской водки — Петр Смирнов, водочный король России, родом из Мышкина. А есть еще дворец мышиный с театрализованными чудесами. Но мне... повезло, я во дворец не попал, значит, будет еще повод вернуться и сходить. А попал в якобы крестьянскую избу, хозяйка которой довела всю нашу группу до истерического хохота. Позвякивая медалькой многодетной российской мамы, она повела такой рассказ про наши времена и славный город Мышкин, что куда тем новым русским бабкам!

А ребятишки ее, четыре девчонки и один парнишка, подпевали ей и плясали вместе с нами. На гуслях играла, которые муж ее будто бы из полена смастерил, потом на балалайке, и с частушками, про Семеновну, бабу бойкую. Гидесса сидела рядом и тоже хохотала, будто в первый раз сюда пришла. Я ее потом спросил, это артистка, что ли? Нет, ответила она, просто по жизни такая. Без работы осталась, а тут вдруг предложили в этой самой избе народ веселить и жить тут же. Кто откажется, тем более, что другой такой хозяйки на эту фольклорную избу еще поискать надо?

Про этот очень даже небольшой, на 6 тысяч жителей городок, можно рассказывать еще пять раз по столько же. Но лучше съездить самому и посмотреть на него вживую. Я же не могу промолчать про их монумент павшим в годы Великой Отечественной войны. Всякие памятники видел, и в России, и за ее пределами. Но такого нет нигде. И вроде бы ничего особенного: бронзовая фигура солдата со скаткой через плечо и с винтовкой-трехлинейкой. Мраморная стена, на которой выбиты имена всех мужиков, что погибли на войне. Всего 382 имени, это почти все довоенные мужчины славного города Мышкина. И здесь же выбиты строки из писем солдата Ивана Орлова своей жене Матрёне: «Супруга Мотя, дай тебе судьба терпения и мужества довести свою семью до уровня лучших. Прощай, мой маленький малыш. Прощай, мой дом родной, береги ты мою семью, как берег меня...»

Он погиб у стен Сталинграда, а в Мышкине стоит ему вечный памятник.

Я хотел бы еще раз приехать в этот город. Постоять у домика, в котором замечательный писатель Виталий Бианки сочинял свою «Лесную газету». Не одно поколение детворы выросло на тех «лесных» заметках. Может быть кто-то взял бы меня с собой порыбачить на Волгу, жереха на блесну половить. Фотоаппарат бы взял и поснимал бы этот городок на фоне заходящего солнца. Внукам бы показал: смотрите, какая красота. Чего же вам еще искать в дальних странах?
Все снимки сделаны в городе Мышкине в августе 2015 года.
А вот пишу, не могу удержаться, потому что очаровал меня российский Мышкин донельзя. Год назад еще повезло мне прокатиться по Золотому кольцу, и был там в меню этот небольшой городок. Надо было всего лишь продлить поездку на два дня, доплатить немного. Но подумал тогда: а что он в сравнении с Суздалем или Владимиром? Маленький купеческий городок, меньше нашего Костаная, что там делать?

Как же я ошибался! Минувшим летом опять же поездка по России, на этот раз на круизном теплоходе, и опять в самом конце этот самый Мышкин.

Когда мы выходили на пристань мышиной столицы, две мысли более всего терзали голову. Что тут смотреть, если весь городок и с теплохода насквозь виден? И где бы нам купить вяленой или копченой рыбы в предвидении скорой встречи с родственниками? На Валааме и в Кижах это пахучее счастье было таким дорогим, что рука не поднялась потратить отпускные деньги. На Мышкин была последняя надежда, хотя и слабая. Такие вот проблемы.

Оказалось, не проблемы это, а одно удовольствие. С рыбой все решилось само собой. За одним с нами столиком в ресторане теплохода оказалась женщина, у которой мама по сей день живет в этом самом городке. А на пристани подруга детства много лет торгует вожделенной рыбой. Один звонок на пристань, и нам было обещано все, в ассортименте и по божеской цене. Уже под конец пешей экскурсии мы бросили якоря у торговых рядов и от души затарились и жерехом, и воблой, и даже одной стерлядкой.

На лотках напротив жена присмотрела себе очень удобные и мягкие валеночки. При наших-то морозах и буранах лучше обуви нет. Оказывается, здесь не только мышиные музеи и дворцы, но и валенки тоже в почете. И пока она примеряла это валяное удобство, я подошел к еще одному рыбному прилавку. Мужик торговал вяленую рыбу, судя по всему, им же пойманную и засушенную. Не знаю почему, но покупателей у него было не густо. Может быть, всю торговлю ему перебивали богатые копченые развалы напротив. А может быть, просто не умеет человек продавать. Я подошел. Он с надеждой изобразил торговца. Я присмотрелся и понял: надо брать.
- Как зовется рыбка?
- Чехонь, бери, недорого, сам ловлю.

О, это редкое, а для казахстанца вообще недостижимое имя: чехонь. Не пробовал, но читал и отложилось в сознании: сначала чехонь, а потом уже вобла. Если ставить их в вяленую табель о рангах. Конечно же купили, и потом в Москве вся мужская часть семьи с треском снимала чешую, смотрела сквозь рыбешку на солнце и восхищались ароматом. К пиву, оказывается, нет ничего лучше. Но это было потом, в конце недолгого, всего на половину дня знакомства с удивительным городком. А вначале было слово, Точнее, слово, песни и танцы.

Прямо с пристани наша соседка умчалась к маме, полоть огуречные грядки, а мы изготовились к поездке по городку. Но гидесса огорошила всех сразу. Ездить тут некуда и не на чем, все интересное пешком обойдем, а пока получите мышиный привет. И вот уже на пристани стоит ведерный самовар, и две здоровенные мыши с меня ростом пляшут вокруг него со старой песенкой на свой мышиный лад: «У самовара я и моя Мыша». Детвора визжала от восторга и норовила потрогать мышей руками, убедиться, что правда живые.

А потом мы пошли по городку, и чем дальше мы заходили в глубь его ухоженных улочек с резными деревянными домами, тем больше мне хотелось тут остаться еще хотя бы на недельку. Вот же прекрасное место, где можно с удовольствием пожить, если б была работа и заработок. Тихо, никаких тебе пробок, Волга видна почти с любой улицы, никто никуда не спешит. Мы брели сквозь уют городка, у здания администрации я заметил двух тетушек, которые сцепились языками. Когда через полтора часа мы шли обратно, те же тетушки стояли на том же месте и разговору не видно было конца.

Где-то в интернете прочитал, что вроде бы этот самый Мышкин выведен Александром Николаевичем Островским в драме «Гроза». Ну, как же помню, луч света в темном царстве, Дикой, Кабаниха, Катерина. Но чем сильнее мы вникали в историю городка, тем больше у меня сомнений было по поводу «Грозы». Главным образом по той причине, что городок-то невелик, неспешен, но темным царством здесь и близко не пахло. Славен он всегда был своими купцами, а те хоть и по природе своей консервативны, никакого застоя в делах не терпели. Один лишь пример ретроградства сумел я откопать в истории: городской голова купец первой гильдии Тимофей Васильевич Чистов отказался проводить в город железную дорогу. Не понравилась ему мазутная вонь, суета, гудки паровозов.

Но и по Волге отправляли они в столицу столько всякого товару, что поверить трудно. Одних яиц около шести миллионов штук. Я так понимаю, в год. Но ведь шесть миллионов! Их же надо было где-то скупить, собрать, упаковать. А сам Чистов, будучи избран городским головой, правил городом на честной выборной основе 27 лет. Это как же надо работать для простых горожан и своих товарищей купцов, чтобы тебя 27 раз выбирали мэром? Кстати, вот то решение насчет железной дороге принимал он не самочинно, а вполне демократично. Референдума не было, но опрос всех горожан он провел и только потом заявил: обойдемся без железки!

Нас конечно же сводили на его мельницу, которая прослужила городу до семидесятых застойных годов. И сейчас служит, как одна из самых смешных фишек для всех экскурсий. Да вот опишу, как оно было. Подходим к бревенчатому сооружению, гидесса заглядывает во внутрь с вопросом: мыши на месте. Мы, полагая, что это какой-то заскок экскурсовода, втягиваемся в сумрачное помещение. Гидесса толкует, что надо плотно закрыть двери, чтобы ни одна мышь не проскочила. И начинает рассказ про то, как тут мололи, кому и почем. Народ расслабляется, начинает скучать и пробираться поближе к выходу, не обращая внимания на опять же громадных кукол в виде мышей по углам. «А тут, - говорит она, - мололи зерно тем, кто принес немного, ведерко или того меньше».

Да, вот она, мельничка, совсем небольшая, рядом притулились две мыши. И вдруг эти самые мыши встают, начинают меж собой разговор и вертят ручки мельницы. Женщины в крик с перепугу, мужики хохочут, и тогда становится понятен вопрос: мыши на месте? Конечно на месте и всегда готовы разыграть свою сценку.

От купца Чистов много чего осталось городу. И мельница, и склады, и мосты, кинутые через ручьи и лога еще до революции, и дом, в котором он жил. В удовольствие жил, балы устраивали не хуже столичных, и особ императорской фамилии принимал. Был он из крепостных крестьян графа Шереметева, но остался в памяти хозяином. Заступив на пост, первым делом взялся он за экономию и очень преуспел в этом занятии. Да вот любопытный пример. В городской больнице обнаружил он бесхозные оловянные миски, которые тут же распорядился продать (5 рублей). В пожарке боевой конь от старости преставился, Чистов скомандовал: шкуру снять и продать (4 рубля). В больничном саду скосили сорняки, высушили и продали как сено.

И так во всем. За время его правления выстроено было в Мышкине около половины всего числа каменных домов и немало прочных деревянных, но опять же на каменном фундаменте. Нередко Тимофей Васильевич не задумываясь пускал на нужды города собственные средства. И не всегда считал нужным вернуть свое кровное назад. А когда сам отходил в мир иной, оставил завещание, по которому обязал своих наследников продать его домину за чисто символические деньги родному городу. В доме этом устроили больницу и прослужила она народу опять же до самых семидесятых годов.

Мы прошли вдоль всего этого дома, зашли в храм, где молился и сам хозяин города, и в музеи заходили, и в картинную галерею, только театр миновали, днем гуляли, не время для спектаклей. Кстати, о театрах. В городе Мышкине одна больница, одна школа, одно училище, одна картинная галерея, один фонтан, и лишь театров — четыре. Правда, все самодеятельные, но, говорят, очень высокого уровня.

В характере мышкинцев: вроде и живут не торопясь, но никто не попрекнет, что бездельники. Всегда, во все времена, отличались делом и хваткой. Сувениров на пристани и повсюду в городе, как на лотках у Красной площади. Музеев по всему городку открыли всяких — и музей валенка, и русской водки — Петр Смирнов, водочный король России, родом из Мышкина. А есть еще дворец мышиный с театрализованными чудесами. Но мне... повезло, я во дворец не попал, значит, будет еще повод вернуться и сходить. А попал в якобы крестьянскую избу, хозяйка которой довела всю нашу группу до истерического хохота. Позвякивая медалькой многодетной российской мамы, она повела такой рассказ про наши времена и славный город Мышкин, что куда тем новым русским бабкам!

А ребятишки ее, четыре девчонки и один парнишка, подпевали ей и плясали вместе с нами. На гуслях играла, которые муж ее будто бы из полена смастерил, потом на балалайке, и с частушками, про Семеновну, бабу бойкую. Гидесса сидела рядом и тоже хохотала, будто в первый раз сюда пришла. Я ее потом спросил, это артистка, что ли? Нет, ответила она, просто по жизни такая. Без работы осталась, а тут вдруг предложили в этой самой избе народ веселить и жить тут же. Кто откажется, тем более, что другой такой хозяйки на эту фольклорную избу еще поискать надо?

Про этот очень даже небольшой, на 6 тысяч жителей городок, можно рассказывать еще пять раз по столько же. Но лучше съездить самому и посмотреть на него вживую. Я же не могу промолчать про их монумент павшим в годы Великой Отечественной войны. Всякие памятники видел, и в России, и за ее пределами. Но такого нет нигде. И вроде бы ничего особенного: бронзовая фигура солдата со скаткой через плечо и с винтовкой-трехлинейкой. Мраморная стена, на которой выбиты имена всех мужиков, что погибли на войне. Всего 382 имени, это почти все довоенные мужчины славного города Мышкина. И здесь же выбиты строки из писем солдата Ивана Орлова своей жене Матрёне: «Супруга Мотя, дай тебе судьба терпения и мужества довести свою семью до уровня лучших. Прощай, мой маленький малыш. Прощай, мой дом родной, береги ты мою семью, как берег меня...»

Он погиб у стен Сталинграда, а в Мышкине стоит ему вечный памятник.

Я хотел бы еще раз приехать в этот город. Постоять у домика, в котором замечательный писатель Виталий Бианки сочинял свою «Лесную газету». Не одно поколение детворы выросло на тех «лесных» заметках. Может быть кто-то взял бы меня с собой порыбачить на Волгу, жереха на блесну половить. Фотоаппарат бы взял и поснимал бы этот городок на фоне заходящего солнца. Внукам бы показал: смотрите, какая красота. Чего же вам еще искать в дальних странах?
Все снимки сделаны в городе Мышкине в августе 2015 года.
Читайте также