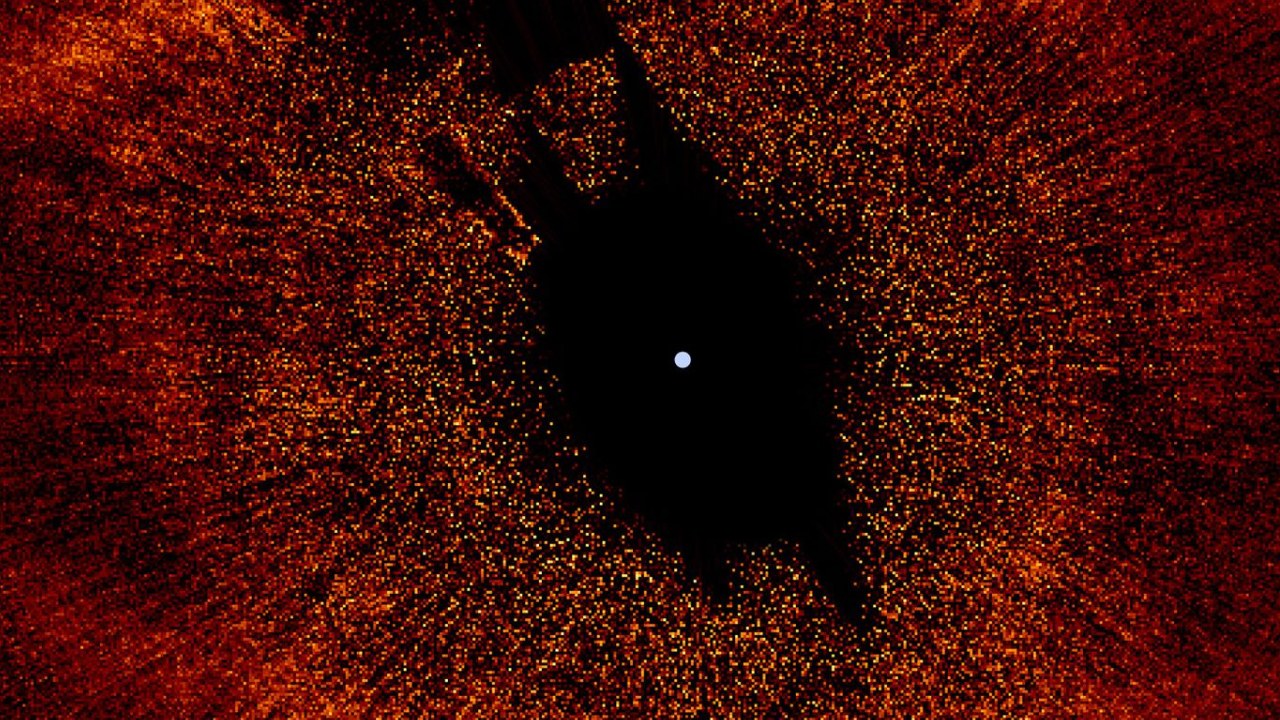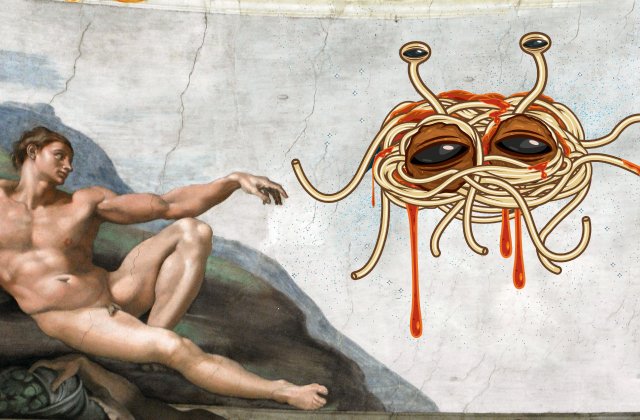Непал: познать свою Меру. Часть 2
Катманду – Лукла – Чутанга
29.10.2013 (вторник)
29.10.2013 (вторник)
Утром всё по-скорому: подъём в 5:25, завтрак в 5:50, и уже в половине седьмого мы выехали в аэропорт. Там, в отличие от прошлого года, было поставлено на весы абсолютно всё – в буквальном смысле этого слова: сначала наши рюкзаки, а потом и мы сами, с ручной кладью и всем, что было на нас надето и навешано. Такое ощущение, что власти аэропорта решили рьяно бороться с перегрузами и уловками пассажиров. Кстати, Рагимов, если не ошибаюсь, опять ухитрился "сбросить" килограмма полтора за счёт ботинок, которые он нёс на шее, а перед тем, как встать на весы, снял и попросил кого-то подержать.
На лётном поле произошла задержка: долго не пускали к самолёту, и пришлось ждать в автобусе. В это время мимо нас в походном снаряжении стали прогонять роту солдат, вооружённых карабинами. Исакич, уставший сидеть без дела, тут же схватился за фотоаппарат и принялся щёлкать затвором. Сам не знаю откуда, но я вдруг выдал ему экспромтом предостерегающее двустишие:
– Непальский снайпер с криком "намастэ!" (*8)
"Снял" в объектив слепящего туриста.
Для наглядности я изобразил, как снайпер "снимает" выстрелом цель.
Исакич бросил в ответ что-то недоверчиво-весёлое типа "да ладно!", но фоткать перестал.
Наконец, в 8:50 по местному времени мы взлетели и через полчаса благополучно приземлились на аэродроме в Лукле (о "прелестях" посадки на этом клочке бетона над ущельем я уже писал в прошлогоднем отчёте, поэтому повторяться не буду).

Из Луклы (Lukla, 2840 м) по плану следовал примерно трёхчасовой переход до Чутанги (Chutanga, 3245 м), а поскольку времени было в достатке, то мы не спеша пообедали в уже знакомом нам отеле рядом с аэропортом, где кроме нас сделала остановку группа немцев, направлявшихся на Айленд-пик.
Одним из гидов у немцев была русская девушка Марина Новикова. Мы с удовольствием сфотографировались и перебросились парой фраз. Марина рассказала, что она родом из советского Таджикистана, уехала в Германию 16 лет назад и теперь живёт в Мюнхене и водит туристов по самым разным странам и маршрутам. Напоследок мы пожелали друг другу удачи.
Путь до Чутанги, начатый в половине двенадцатого, растянулся на 4 часа, из которых полтора часа ушло на две неспешные остановки на чай и ланч.
В отличие от прошлогоднего трека, на этой практически безлюдной тропе лоджий не было, и для ланча мы просто останавливались в удобном месте, а наша бравая группа поддержки из нанятых Пурбой носильщиков и повара тут же варганила что-то съестное на своих примусах.

Сам Пурба шёл вместе с нами и следил за действиями своей команды. Невысокого роста, но физически крепкий и всегда позитивно настроенный, с непередаваемой хитрецой в вечно улыбающихся глазах, он прямо-таки заряжал нас своей энергией. А общительность вкупе со свободным английским делала его прекрасным собеседником.

Пурба
Несмотря на свой высокий статус руководителя, Пурба никак не выказывал даже намёков на какое-либо высокомерие – по крайней мере, я ничего подобного не заметил. В нём легко сочетались простота и достоинство, а также внимательное отношение ко всем членам экспедиции, в том числе к своим помощникам. При этом он не считал зазорным, особенно в первые дни похода, сам обслужить нас с горячим чайником в одной руке и подносом с кружками в другой. Я бы также отметил в нём острый ум и наблюдательность.
Его правой рукой был Ками – высотный гид, по словам Пурбы, четырежды побывавший на вершине Эвереста. Пурба произносил это с особой гордостью, добавляя при этом, что теперь вот этот замечательный человек работает в его фирме. Ками, судя по всему, и осуществлял текущее руководство остальной командой (что и кому надо сделать), а также выполнял разовые поручения шефа. На вид Ками был чуть постарше Пурбы (*9) и настолько основателен во всём, что ни малейшего сомнения в его высоком профессионализме не оставалось.

О взаимоотношениях этих двух главных людей в группе можно было судить по одному маленькому, почти незаметному эпизоду, случившемуся в первый же день. Памятуя о прошлогодних неудобствах с болтающейся за спиной гитарой, я вскоре после выхода на тропу передал её Пурбе. И на своём коверканном английском объяснил, что доверить эту очень важную для меня вещь могу только ему. Пурба без вопросов взял ценный груз, прикрепил к своему рюкзаку и выдвинулся в голову группы. И только наутро следующего дня я обнаружил, что новым "оруженосцем" стал Ками. Пурба перехватил мой взгляд и очень деликатно объяснил, что Ками – это как раз тот самый наиболее надёжный человек, у которого с гитарой точно ничего не случится. Таким образом, и суть пожелания клиента была исполнена, и негласная субординация в распределении обязанностей членов команды не нарушена.
Ещё одним гидом был Дауа, более молодой, но тоже очень спокойный и уверенный в себе. Чувствовалось, что он здесь абсолютно в своей стихии, готовый к любым ситуациям и сюрпризам изменчивых гор, и наш поход скорее походил для него на лёгкую прогулку – как плавание по безмятежной глади моря, где он, младший помощник капитана, в любую секунду готов подменить своего шкипера, встать у штурвала и вести корабль сквозь внезапно налетевший шторм. Говоря о Дауа и Ками, Пурба опять же с нотками гордости добавлял, что они оба шерпы и полное имя Дауа – Дауа Шерпа.
Кстати, Дауа на второй день пути был приставлен зорким Пурбой к нам с Олей, чтобы мы, шедшие последними, были обеспечены постоянной поддержкой. Он так и сопровождал нас всю дорогу до конца путешествия.
Об остальных непальцах я мало что сохранил в памяти и своих записях, поскольку с ними просто реже пересекался на тропе. Рагимов и Киреев лишь упоминали, что один из них (по-моему, повар) был родственником Пурбы.
Движение по тропе было не слишком обременительным, без крутых подъёмов, с постепенным набором высоты. Киреев и Папуш, совершившие перед экспедицией акклиматизационный выезд на склоны Эльбруса, сразу умчались куда-то вперёд, за скоростным Радаевым. За ними тянулись все остальные. Замыкали колонну, как и следовало ожидать, мы с Олей, да зачастую рядом с нами оказывался командор, по обыкновению шедший очень размеренно и экономно, без лишних затрат энергии.
Когда дошли до Чутанги, непальцы под руководством Ками тут же разбили лагерь из пяти палаток, одна из которых предназначалась Рагимову как нашему командору, а в остальных селились по двое.
И тут выяснилось, что отстали наши основные рюкзаки и баулы со спальниками, тёплыми шмотками и всем остальным, что обычно никто из нас не брал в маленький походный рюкзачок. Такое бывало и в прошлый поход, поэтому известие поначалу беспокойства не вызвало.
А зря. Потому что вещи вскоре прибыли, но не все. Рюкзака Радаева среди них не оказалось. Пока Володя маялся и выслушивал предложения, что делать, Пурба дозвонился до Луклы и сообщил, что рюкзак по ошибке остался там, но завтра нас "догонит", посему пока будет сооружена временная постель.
При этом в стандартный набор экспедиционного снаряжения, взятого с собой непальцами, помимо палаток уже входили обшитые прочной материей и приличные по размерам поролоновые подстилки. Поверх них для нас с Олей я ещё постелил самонадувающиеся коврики и сверхтёплые спальники на основе синтетики, рассчитанные до температуры минус 30º (из того большого набора снаряжения, что было закуплено в Москве).
Вечер провели в чайном домике (Tea House), поужинав около 6 часов, когда уже стемнело. Есть в первый день по обыкновению не особо хотелось, да ещё и рацион, предложенный нам Пурбой из закупленных продуктов, оказался не вполне соответствующим нашим вкусам – было видно, что в этом вопросе ещё предстоит "найти консенсус".
После ужина Палыч (как мы привыкли звать Сергея Папуша) сразу ушёл спать, потом за ним потянулись Оля и другие, а я ещё с полчаса мучил гитару, при этом основными слушателями были местные парни, да одинокая японка со своим гидом.
Мобильная связь в деревушке присутствовала, и я послал на родину SMS родителям, что у нас всё хорошо и мы ни в чём не нуждаемся.
---
(*8) "Намастэ" – традиционное приветствие в Непале вроде нашего "здравствуйте".
(*9) Как я уже не раз ловил себя на мысли, возраст непальцев по их внешнему виду определить было очень сложно. На мой дилетантский взгляд, и Пурбе, и Ками было слегка за сорок.
---
В 6 утра нас с Олей разбудил голос снаружи палатки. Как оказалось, наши шерпы свято блюли традиции, заложенные их отцами и дедами, когда сопровождаемым горовосходителям предлагался "чай в постель". По желанию клиента в кружку добавлялось нужное количество сахара, и вот уже, взбодрённые таким приятным пробуждением, мы выбираемся из палаток, а рядом с ними уже стоят большие глубокие миски с горячей водой, чтобы умыться и помыть руки. Да это просто курорт какой-то!
Погода с утра стояла ясная, лишь кое-где над ущельем зависли обрывки низких облаков, над которыми вдалеке в лучах восходящего солнца ярко сверкали белоснежные шапки вершин. Землю за ночь покрыл иней. Да и весь наш склон, обращённый к западу, ещё долго оставался в тени, поэтому мы сразу оделись потеплее и после завтрака в 8:10 вышли на тропу. По словам Пурбы, в прошлом году было ещё холоднее, и под ногами кое-где был лёд.
До Харкатенга (Kharkateng, 4000 м) дошли менее чем за 3 часа. Деревушка состояла из нескольких хижин, половина из которых были временными постройками, укрытыми сверху вместо крыши большими полотнищами толстой синей плёнки.
Когда мы с Олей последними поднялись к такому ближайшему сарайчику, нас уже ждал Пурба с кружками на большом подносе в одной руке и чайником с горячим соком – в другой. И в дальнейшем сок из банок, подогретый на примусе, был нашим любимым питьём в конце каждого перехода.

Бывало, идёшь уже часа 3 по тропе, весь народ где-то далеко впереди, и тут навстречу по камням скачет паренёк с чайником и кружками. Оказывается, в пяти минутах ходьбы сделана остановка на ланч, и всех уже напоили горячим ананасовым соком, остались только мы с Олей. Тепло из кружки разливается по жилам, и к нам тут же возвращаются бодрость и хорошее настроение.
Из деревушки был хорошо виден покрытый снегом перевал, и Палыч с Киреевым и Радаевым тут же начали сопоставлять увиденное с картой, купленной в Катманду. Судя по ней, за первым перевалом почти сразу следовал второй, после чего тропа постепенно спускалась в долину реки Хинку до высоты 3500 метров.

Те уверенные в себе путешественники, которые брали перевал в конце второго дня пути, обычно успевали спуститься только до местечка Тули-Кхарка (Thuli Kharka, 4300 м), состоящего всего из пары лоджий, притулившихся у превосходящего их по размерам огромного камня, будто брошенного сверху каким-то великаном на эту большую серую поляну и так и оставшегося торчать на ней. Мы же рассчитывали за день скатиться ниже 4000 метров, туда, где уже начиналась зона лесов.
Сегодня же, пока в запасе было целых полдня, желающим предлагалось для лучшей акклиматизации прогуляться до середины подъёма к перевалу. Мы с Олей этой возможностью воспользовались и поднялись до приметного камня, служащего примерно такой отметкой. Здесь уже повсюду лежал снег, мы вторглись в его царство, оказавшись выше не только его условной границы, но и облаков, поднимавшихся из ущелья. А ещё выше над перевалом весело развевались на ветру разноцветные вереницы флажков с начертанными на них буддийскими мантрами, и по склону маленькими точками двигались в противоположных направлениях несколько фигурок. Эта картина, и облака под нами, и ветер, наполнявший лёгкие, – приятно бодрили и вызывали волнующее чувство близости заветной цели.

Сделав пару снимков, я про себя порадовался тому, что перед поездкой не поскупился на новый фотоаппарат с 16-кратным зумом, благодаря чему один и тот же вид можно снять с разным приближением, передавая то общее масштабное полотно, то его отдельные интересные детали. Плюс к тому модель была оснащена лёгкой ручной подстройкой некоторых параметров, включая яркость и цветопередачу, и мне не надо было ломать голову над тем, каким получится снимок. Я просто щёлкал два-три кадра подряд с разными установками, чтобы потом, дома, выбрать из них лучший.

Когда мы спустились к лагерю, палатки уже стояли рядами на специально приспособленных для этого ровных лужайках: наши и рядом, если не ошибаюсь, датчан, шедших одним графиком с нами. Поодаль высился еще один переносной "домик" – туалет. А в небогатой лоджии уже ждал чай.
Пить действительно очень хотелось, а затем и немного вздремнуть до ужина, тем более что все рюкзаки, включая радаевский, были в этот раз на месте, и ничто не мешало забраться в тёплый спальник и немного расслабиться.
Кстати, наши с Олей спальники действительно оказались настолько тёплыми, что я первые 2 ночи мучился от жары (это при минусовой температуре наружного воздуха!) и всё комбинировал разные варианты из расстёгнутого спальника и других вещей, чтобы одновременно ненароком не застудиться и спать в относительно комфортных условиях.
Видимо, из-за этого недосыпания, а также влияния кислородного голодания за ужином со мной случился сущий кошмар: я вдруг обнаружил, что пропали все мои "заначки" в долларах и евро – весьма внушительная сумма! Перерыв всё, что только можно, и уже почти смирившись с пропажей, я лишь спустя приличное время обнаружил её рядом с собой на лавке в целости и сохранности.
За ужином помимо обычной еды нам досталось по куску вкусного пирога. Трапеза сопровождалась звуками пения из соседнего с нами помещения, где собрались местные – видимо, что-то праздновали. Немного послушав этот нестройный хор голосов, я взялся за гитару и принялся негромко вытягивать любимые мелодии Визбора и Никитина. Звуки за перегородкой тут же стихли, было понятно, что поющие обратились в слушателей. Затем некоторые из них – кто робко, а кто посмелее – стали заглядывать в нашу кают-компанию. Кое-кто из парней был в шортах и шлёпанцах на босу ногу, что не очень вязалось с морозцем за дверью, куда они время от времени выскальзывали.
Потом нарисовалась какая-то тётка и в перерывах между песнями что-то говорила мне на своём языке, грубовато-воркующее. Я в тон ей отвечал, что – да, вот так и живём: днём идём, вечером поём – а куда деваться?! Нам песня не только строить и жить помогает, но и вообще... И затягивал новую.
Видимо, вспомнив про какие-то свои дела, женщина с явной неохотой ушла, а мы ещё какое-то время посидели, перед тем как перебираться из натопленного помещения в наши скованные холодом постели.
Утром Оля призналась, что почти всю ночь не спала. Ей и на равнине-то никогда не было удобно ночевать в палатке – видимо, из-за каких-то особенностей строения её организма. По утрам она жаловалась, что болит спина, и только последующее плавание в реке (где летом обычно всё и происходило) снимало боль и напряжение. А здесь ни о каком купании не могло быть и речи – проснулся, поднялся и пошёл! Ну, если не считать завтрака и так полюбившегося нам "чая в постель"...
Подъём в этот день был в 6:30, но вышли мы всё равно поздно – в 8:25. Видимо, нехитрые утренние сборы вещей и упаковка их в баул, а наиболее необходимых – в лёгкий личный рюкзак, ещё не были доведены до автоматизма и отнимали слишком много времени у заторможенного от высоты мозга.
Подъём до перевала не представлял технической трудности, если не считать скользковатые местами участки, где поднимавшиеся или спускавшиеся гиды из разных групп останавливались и начинали вырубать ледорубами в плотном снегу ступеньки, чтобы другим было легче идти.

Я надел Оле на ботинки припасённые для подобного случая ледоступы. По её словам, шипы держали великолепно, правда, уже в конце дня обнаружилось, что на одном из ледоступов два из десяти шипов оказались вырванными из резинового корсета – видимо, из-за того, что помимо снега нам пришлось преодолевать несколько каменистых отрезков.
На первом перевале, куда поднялись за 2 часа, последовала 15-минутная передышка с фотографированием друг друга, пейзажей и облаков под нами. Затем двинулись ко второму, обратив по пути внимание на следы снежного барса и горных козлов, а также на старые лавинные выносы, кое-где пересекавшие тропу.
После четырёх часов пути, оставив позади оба перевала и спустившись ниже границы снегов, мы сделали остановку на ланч и вскоре двинулись дальше, траверсом по серо-коричневому склону, покрытому пожухлой травой. К этому времени долина уже была в тумане от накрывших её облаков.

Потом тропа вошла в рододендроновый лес, и мы прыгали по влажным от росы камням, стараясь не поскользнуться. Облака в какой-то момент чуть-чуть раздвинулись, и Пурба в открывшемся просвете показал нашу Гору.
К этому моменту мы были в пути уже более 7 часов, и Оля заметно устала. Пурба предложил взять у неё рюкзак, но она решительно отказалась и минут 20 продолжала идти, не соглашаясь расстаться со своей ношей. Наконец, её уговорили, и тут вскоре оказалось, что мы пришли.
Токтор не был обозначен на картах и представлял собой даже не деревушку, а пару домиков и столько же узких травяных уступов рядом с ними для палаток на высоте порядка 3700 метров.

Видя, как вымоталась после бессонной ночи и длинного перехода жена, я попробовал выяснить, нельзя ли снять на ночь комнатку в одной из построек, но оказалось, что они ещё не достроены и не готовы к приёму посетителей.
Палатки к нашему с Олей приходу уже стояли, и можно было погреться чаем и горячим молоком в небольшой обжитой комнате одного из домиков.
В 17:30 стемнело, ещё через полчаса был готов ужин, после которого Сергей Киреев, взяв в помощники своего тёзку Рагимова, представил широкой публике только что сочинённые частушки. Они пели про Олю, которая не соглашалась расстаться с рюкзаком, про мощных ходоков Палыча с Леной, про оставшегося без вещей Радаева, про любящего поболтать с непалками Исакича – в общем, про всех нас. Я тут же досочинил к частушкам весёлый припев и присоединился к поющей компании.
После частушек Оля отправилась спать, а мы ещё посидели с гитарой, пока усталость не сморила самых стойких.
На лётном поле произошла задержка: долго не пускали к самолёту, и пришлось ждать в автобусе. В это время мимо нас в походном снаряжении стали прогонять роту солдат, вооружённых карабинами. Исакич, уставший сидеть без дела, тут же схватился за фотоаппарат и принялся щёлкать затвором. Сам не знаю откуда, но я вдруг выдал ему экспромтом предостерегающее двустишие:
– Непальский снайпер с криком "намастэ!" (*8)
"Снял" в объектив слепящего туриста.
Для наглядности я изобразил, как снайпер "снимает" выстрелом цель.
Исакич бросил в ответ что-то недоверчиво-весёлое типа "да ладно!", но фоткать перестал.
Наконец, в 8:50 по местному времени мы взлетели и через полчаса благополучно приземлились на аэродроме в Лукле (о "прелестях" посадки на этом клочке бетона над ущельем я уже писал в прошлогоднем отчёте, поэтому повторяться не буду).

На подлёте к Лукле
Из Луклы (Lukla, 2840 м) по плану следовал примерно трёхчасовой переход до Чутанги (Chutanga, 3245 м), а поскольку времени было в достатке, то мы не спеша пообедали в уже знакомом нам отеле рядом с аэропортом, где кроме нас сделала остановку группа немцев, направлявшихся на Айленд-пик.
Одним из гидов у немцев была русская девушка Марина Новикова. Мы с удовольствием сфотографировались и перебросились парой фраз. Марина рассказала, что она родом из советского Таджикистана, уехала в Германию 16 лет назад и теперь живёт в Мюнхене и водит туристов по самым разным странам и маршрутам. Напоследок мы пожелали друг другу удачи.
Путь до Чутанги, начатый в половине двенадцатого, растянулся на 4 часа, из которых полтора часа ушло на две неспешные остановки на чай и ланч.
В отличие от прошлогоднего трека, на этой практически безлюдной тропе лоджий не было, и для ланча мы просто останавливались в удобном месте, а наша бравая группа поддержки из нанятых Пурбой носильщиков и повара тут же варганила что-то съестное на своих примусах.

Остановка на ланч
Сам Пурба шёл вместе с нами и следил за действиями своей команды. Невысокого роста, но физически крепкий и всегда позитивно настроенный, с непередаваемой хитрецой в вечно улыбающихся глазах, он прямо-таки заряжал нас своей энергией. А общительность вкупе со свободным английским делала его прекрасным собеседником.

Пурба
Несмотря на свой высокий статус руководителя, Пурба никак не выказывал даже намёков на какое-либо высокомерие – по крайней мере, я ничего подобного не заметил. В нём легко сочетались простота и достоинство, а также внимательное отношение ко всем членам экспедиции, в том числе к своим помощникам. При этом он не считал зазорным, особенно в первые дни похода, сам обслужить нас с горячим чайником в одной руке и подносом с кружками в другой. Я бы также отметил в нём острый ум и наблюдательность.
Его правой рукой был Ками – высотный гид, по словам Пурбы, четырежды побывавший на вершине Эвереста. Пурба произносил это с особой гордостью, добавляя при этом, что теперь вот этот замечательный человек работает в его фирме. Ками, судя по всему, и осуществлял текущее руководство остальной командой (что и кому надо сделать), а также выполнял разовые поручения шефа. На вид Ками был чуть постарше Пурбы (*9) и настолько основателен во всём, что ни малейшего сомнения в его высоком профессионализме не оставалось.

Ками и Оля
О взаимоотношениях этих двух главных людей в группе можно было судить по одному маленькому, почти незаметному эпизоду, случившемуся в первый же день. Памятуя о прошлогодних неудобствах с болтающейся за спиной гитарой, я вскоре после выхода на тропу передал её Пурбе. И на своём коверканном английском объяснил, что доверить эту очень важную для меня вещь могу только ему. Пурба без вопросов взял ценный груз, прикрепил к своему рюкзаку и выдвинулся в голову группы. И только наутро следующего дня я обнаружил, что новым "оруженосцем" стал Ками. Пурба перехватил мой взгляд и очень деликатно объяснил, что Ками – это как раз тот самый наиболее надёжный человек, у которого с гитарой точно ничего не случится. Таким образом, и суть пожелания клиента была исполнена, и негласная субординация в распределении обязанностей членов команды не нарушена.
Ещё одним гидом был Дауа, более молодой, но тоже очень спокойный и уверенный в себе. Чувствовалось, что он здесь абсолютно в своей стихии, готовый к любым ситуациям и сюрпризам изменчивых гор, и наш поход скорее походил для него на лёгкую прогулку – как плавание по безмятежной глади моря, где он, младший помощник капитана, в любую секунду готов подменить своего шкипера, встать у штурвала и вести корабль сквозь внезапно налетевший шторм. Говоря о Дауа и Ками, Пурба опять же с нотками гордости добавлял, что они оба шерпы и полное имя Дауа – Дауа Шерпа.
Кстати, Дауа на второй день пути был приставлен зорким Пурбой к нам с Олей, чтобы мы, шедшие последними, были обеспечены постоянной поддержкой. Он так и сопровождал нас всю дорогу до конца путешествия.
Об остальных непальцах я мало что сохранил в памяти и своих записях, поскольку с ними просто реже пересекался на тропе. Рагимов и Киреев лишь упоминали, что один из них (по-моему, повар) был родственником Пурбы.
Движение по тропе было не слишком обременительным, без крутых подъёмов, с постепенным набором высоты. Киреев и Папуш, совершившие перед экспедицией акклиматизационный выезд на склоны Эльбруса, сразу умчались куда-то вперёд, за скоростным Радаевым. За ними тянулись все остальные. Замыкали колонну, как и следовало ожидать, мы с Олей, да зачастую рядом с нами оказывался командор, по обыкновению шедший очень размеренно и экономно, без лишних затрат энергии.
Когда дошли до Чутанги, непальцы под руководством Ками тут же разбили лагерь из пяти палаток, одна из которых предназначалась Рагимову как нашему командору, а в остальных селились по двое.
И тут выяснилось, что отстали наши основные рюкзаки и баулы со спальниками, тёплыми шмотками и всем остальным, что обычно никто из нас не брал в маленький походный рюкзачок. Такое бывало и в прошлый поход, поэтому известие поначалу беспокойства не вызвало.
А зря. Потому что вещи вскоре прибыли, но не все. Рюкзака Радаева среди них не оказалось. Пока Володя маялся и выслушивал предложения, что делать, Пурба дозвонился до Луклы и сообщил, что рюкзак по ошибке остался там, но завтра нас "догонит", посему пока будет сооружена временная постель.
При этом в стандартный набор экспедиционного снаряжения, взятого с собой непальцами, помимо палаток уже входили обшитые прочной материей и приличные по размерам поролоновые подстилки. Поверх них для нас с Олей я ещё постелил самонадувающиеся коврики и сверхтёплые спальники на основе синтетики, рассчитанные до температуры минус 30º (из того большого набора снаряжения, что было закуплено в Москве).
Вечер провели в чайном домике (Tea House), поужинав около 6 часов, когда уже стемнело. Есть в первый день по обыкновению не особо хотелось, да ещё и рацион, предложенный нам Пурбой из закупленных продуктов, оказался не вполне соответствующим нашим вкусам – было видно, что в этом вопросе ещё предстоит "найти консенсус".
После ужина Палыч (как мы привыкли звать Сергея Папуша) сразу ушёл спать, потом за ним потянулись Оля и другие, а я ещё с полчаса мучил гитару, при этом основными слушателями были местные парни, да одинокая японка со своим гидом.
Мобильная связь в деревушке присутствовала, и я послал на родину SMS родителям, что у нас всё хорошо и мы ни в чём не нуждаемся.
---
(*8) "Намастэ" – традиционное приветствие в Непале вроде нашего "здравствуйте".
(*9) Как я уже не раз ловил себя на мысли, возраст непальцев по их внешнему виду определить было очень сложно. На мой дилетантский взгляд, и Пурбе, и Ками было слегка за сорок.
---
Чутанга – Харкатенг
30.10.2013 (среда)
30.10.2013 (среда)
В 6 утра нас с Олей разбудил голос снаружи палатки. Как оказалось, наши шерпы свято блюли традиции, заложенные их отцами и дедами, когда сопровождаемым горовосходителям предлагался "чай в постель". По желанию клиента в кружку добавлялось нужное количество сахара, и вот уже, взбодрённые таким приятным пробуждением, мы выбираемся из палаток, а рядом с ними уже стоят большие глубокие миски с горячей водой, чтобы умыться и помыть руки. Да это просто курорт какой-то!
Погода с утра стояла ясная, лишь кое-где над ущельем зависли обрывки низких облаков, над которыми вдалеке в лучах восходящего солнца ярко сверкали белоснежные шапки вершин. Землю за ночь покрыл иней. Да и весь наш склон, обращённый к западу, ещё долго оставался в тени, поэтому мы сразу оделись потеплее и после завтрака в 8:10 вышли на тропу. По словам Пурбы, в прошлом году было ещё холоднее, и под ногами кое-где был лёд.
До Харкатенга (Kharkateng, 4000 м) дошли менее чем за 3 часа. Деревушка состояла из нескольких хижин, половина из которых были временными постройками, укрытыми сверху вместо крыши большими полотнищами толстой синей плёнки.
Когда мы с Олей последними поднялись к такому ближайшему сарайчику, нас уже ждал Пурба с кружками на большом подносе в одной руке и чайником с горячим соком – в другой. И в дальнейшем сок из банок, подогретый на примусе, был нашим любимым питьём в конце каждого перехода.

Бывало, идёшь уже часа 3 по тропе, весь народ где-то далеко впереди, и тут навстречу по камням скачет паренёк с чайником и кружками. Оказывается, в пяти минутах ходьбы сделана остановка на ланч, и всех уже напоили горячим ананасовым соком, остались только мы с Олей. Тепло из кружки разливается по жилам, и к нам тут же возвращаются бодрость и хорошее настроение.
Из деревушки был хорошо виден покрытый снегом перевал, и Палыч с Киреевым и Радаевым тут же начали сопоставлять увиденное с картой, купленной в Катманду. Судя по ней, за первым перевалом почти сразу следовал второй, после чего тропа постепенно спускалась в долину реки Хинку до высоты 3500 метров.

Слева направо: В.Радаев, С.Киреев, С.Папуш
Те уверенные в себе путешественники, которые брали перевал в конце второго дня пути, обычно успевали спуститься только до местечка Тули-Кхарка (Thuli Kharka, 4300 м), состоящего всего из пары лоджий, притулившихся у превосходящего их по размерам огромного камня, будто брошенного сверху каким-то великаном на эту большую серую поляну и так и оставшегося торчать на ней. Мы же рассчитывали за день скатиться ниже 4000 метров, туда, где уже начиналась зона лесов.
Сегодня же, пока в запасе было целых полдня, желающим предлагалось для лучшей акклиматизации прогуляться до середины подъёма к перевалу. Мы с Олей этой возможностью воспользовались и поднялись до приметного камня, служащего примерно такой отметкой. Здесь уже повсюду лежал снег, мы вторглись в его царство, оказавшись выше не только его условной границы, но и облаков, поднимавшихся из ущелья. А ещё выше над перевалом весело развевались на ветру разноцветные вереницы флажков с начертанными на них буддийскими мантрами, и по склону маленькими точками двигались в противоположных направлениях несколько фигурок. Эта картина, и облака под нами, и ветер, наполнявший лёгкие, – приятно бодрили и вызывали волнующее чувство близости заветной цели.

Перевал Затрва Ла (вид из д. Харкатенг)
Сделав пару снимков, я про себя порадовался тому, что перед поездкой не поскупился на новый фотоаппарат с 16-кратным зумом, благодаря чему один и тот же вид можно снять с разным приближением, передавая то общее масштабное полотно, то его отдельные интересные детали. Плюс к тому модель была оснащена лёгкой ручной подстройкой некоторых параметров, включая яркость и цветопередачу, и мне не надо было ломать голову над тем, каким получится снимок. Я просто щёлкал два-три кадра подряд с разными установками, чтобы потом, дома, выбрать из них лучший.

Юрий Коссовский
Когда мы спустились к лагерю, палатки уже стояли рядами на специально приспособленных для этого ровных лужайках: наши и рядом, если не ошибаюсь, датчан, шедших одним графиком с нами. Поодаль высился еще один переносной "домик" – туалет. А в небогатой лоджии уже ждал чай.
Пить действительно очень хотелось, а затем и немного вздремнуть до ужина, тем более что все рюкзаки, включая радаевский, были в этот раз на месте, и ничто не мешало забраться в тёплый спальник и немного расслабиться.
Кстати, наши с Олей спальники действительно оказались настолько тёплыми, что я первые 2 ночи мучился от жары (это при минусовой температуре наружного воздуха!) и всё комбинировал разные варианты из расстёгнутого спальника и других вещей, чтобы одновременно ненароком не застудиться и спать в относительно комфортных условиях.
Видимо, из-за этого недосыпания, а также влияния кислородного голодания за ужином со мной случился сущий кошмар: я вдруг обнаружил, что пропали все мои "заначки" в долларах и евро – весьма внушительная сумма! Перерыв всё, что только можно, и уже почти смирившись с пропажей, я лишь спустя приличное время обнаружил её рядом с собой на лавке в целости и сохранности.
За ужином помимо обычной еды нам досталось по куску вкусного пирога. Трапеза сопровождалась звуками пения из соседнего с нами помещения, где собрались местные – видимо, что-то праздновали. Немного послушав этот нестройный хор голосов, я взялся за гитару и принялся негромко вытягивать любимые мелодии Визбора и Никитина. Звуки за перегородкой тут же стихли, было понятно, что поющие обратились в слушателей. Затем некоторые из них – кто робко, а кто посмелее – стали заглядывать в нашу кают-компанию. Кое-кто из парней был в шортах и шлёпанцах на босу ногу, что не очень вязалось с морозцем за дверью, куда они время от времени выскальзывали.
Потом нарисовалась какая-то тётка и в перерывах между песнями что-то говорила мне на своём языке, грубовато-воркующее. Я в тон ей отвечал, что – да, вот так и живём: днём идём, вечером поём – а куда деваться?! Нам песня не только строить и жить помогает, но и вообще... И затягивал новую.
Видимо, вспомнив про какие-то свои дела, женщина с явной неохотой ушла, а мы ещё какое-то время посидели, перед тем как перебираться из натопленного помещения в наши скованные холодом постели.
Харкатенг – Токтор
31.10.2013 (четверг)
31.10.2013 (четверг)
Утром Оля призналась, что почти всю ночь не спала. Ей и на равнине-то никогда не было удобно ночевать в палатке – видимо, из-за каких-то особенностей строения её организма. По утрам она жаловалась, что болит спина, и только последующее плавание в реке (где летом обычно всё и происходило) снимало боль и напряжение. А здесь ни о каком купании не могло быть и речи – проснулся, поднялся и пошёл! Ну, если не считать завтрака и так полюбившегося нам "чая в постель"...
Подъём в этот день был в 6:30, но вышли мы всё равно поздно – в 8:25. Видимо, нехитрые утренние сборы вещей и упаковка их в баул, а наиболее необходимых – в лёгкий личный рюкзак, ещё не были доведены до автоматизма и отнимали слишком много времени у заторможенного от высоты мозга.
Подъём до перевала не представлял технической трудности, если не считать скользковатые местами участки, где поднимавшиеся или спускавшиеся гиды из разных групп останавливались и начинали вырубать ледорубами в плотном снегу ступеньки, чтобы другим было легче идти.

С.Рагимов и Ю.Коссовский на подъёме к перевалу Затрва Ла
Я надел Оле на ботинки припасённые для подобного случая ледоступы. По её словам, шипы держали великолепно, правда, уже в конце дня обнаружилось, что на одном из ледоступов два из десяти шипов оказались вырванными из резинового корсета – видимо, из-за того, что помимо снега нам пришлось преодолевать несколько каменистых отрезков.
На первом перевале, куда поднялись за 2 часа, последовала 15-минутная передышка с фотографированием друг друга, пейзажей и облаков под нами. Затем двинулись ко второму, обратив по пути внимание на следы снежного барса и горных козлов, а также на старые лавинные выносы, кое-где пересекавшие тропу.
После четырёх часов пути, оставив позади оба перевала и спустившись ниже границы снегов, мы сделали остановку на ланч и вскоре двинулись дальше, траверсом по серо-коричневому склону, покрытому пожухлой травой. К этому времени долина уже была в тумане от накрывших её облаков.

Потом тропа вошла в рододендроновый лес, и мы прыгали по влажным от росы камням, стараясь не поскользнуться. Облака в какой-то момент чуть-чуть раздвинулись, и Пурба в открывшемся просвете показал нашу Гору.
К этому моменту мы были в пути уже более 7 часов, и Оля заметно устала. Пурба предложил взять у неё рюкзак, но она решительно отказалась и минут 20 продолжала идти, не соглашаясь расстаться со своей ношей. Наконец, её уговорили, и тут вскоре оказалось, что мы пришли.
Токтор не был обозначен на картах и представлял собой даже не деревушку, а пару домиков и столько же узких травяных уступов рядом с ними для палаток на высоте порядка 3700 метров.

Токтор (фото С.Рагимова)
Видя, как вымоталась после бессонной ночи и длинного перехода жена, я попробовал выяснить, нельзя ли снять на ночь комнатку в одной из построек, но оказалось, что они ещё не достроены и не готовы к приёму посетителей.
Палатки к нашему с Олей приходу уже стояли, и можно было погреться чаем и горячим молоком в небольшой обжитой комнате одного из домиков.
В 17:30 стемнело, ещё через полчаса был готов ужин, после которого Сергей Киреев, взяв в помощники своего тёзку Рагимова, представил широкой публике только что сочинённые частушки. Они пели про Олю, которая не соглашалась расстаться с рюкзаком, про мощных ходоков Палыча с Леной, про оставшегося без вещей Радаева, про любящего поболтать с непалками Исакича – в общем, про всех нас. Я тут же досочинил к частушкам весёлый припев и присоединился к поющей компании.
После частушек Оля отправилась спать, а мы ещё посидели с гитарой, пока усталость не сморила самых стойких.
Читайте также