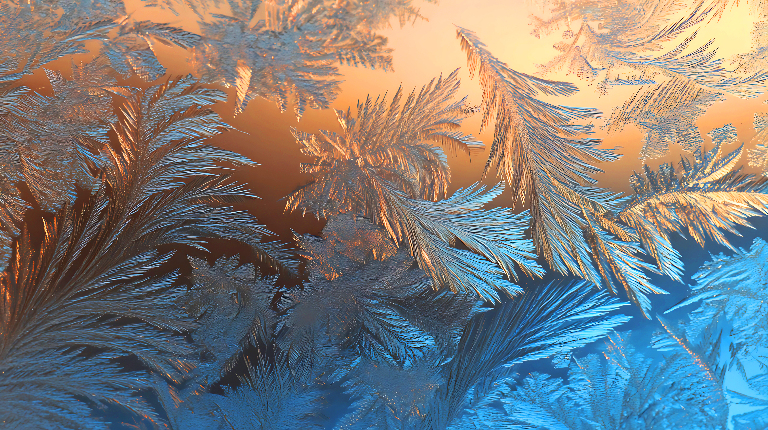Тайна музея Пушкина на Мойке 12
Автор книги «Дуэль и смерть Пушкина» П.Е.Щёголев во всём винил жену поэта Наталью Николаевну. Он отмечал, что внешность позволяла Наталье Николаевне «не иметь никаких других достоинств», и объявлял любые положительные отзывы знавших её лишь «данью вежливости той же красоте».
В двухтомнике "А.С.Пушкин в воспоминаниях современников" (М., 1974 г.) граф В.А.Соллогуб так описывает жену Пушкина: «Я с первого же раза без памяти в неё влюбился; надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной: её лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы...».
По словам П.Е.Щёголева, «при дворе было много прелестных и красивых женщин, но и среди них жена поэта с её блистательной красотой занимала одно из первых, если не первое место».
«Двору хотелось, чтобы Н.Н. танцевала в Аничкове, и поэтому я пожалован в камер-юнкеры», — записал Пушкин в своём дневнике.
Наталья Николаевна была кокетка. В отсутствие мужа она принимала дома Дантеса, а в 1832 году полковника Ф.И.Мусина-Пушкина. Муж узнал об этом совершенно случайно и был очень рассержен. Он писал жене: «…Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе задницу, есть чему радоваться!»
В то же время сам поэт не был образцовым семьянином. Он продолжал увлекаться другими женщинами. 24 июля 1833 года на балу у Фикельмонов Пушкин уделял своё внимание не жене, а 23-летней немецкой красавице Амалии Максимилиановне Крюднер. Разгневанная Натали уехала с бала в одиночестве, а когда поэт вернулся домой, в ярости влепила ему пощёчину.
«Бедный, бедный Пушкин, жертва легкомыслия, неосторожности, опрометчивого поведения своей молодой красавицы-жены, которая, сама того не подозревая, поставила на карту его жизнь против нескольких часов кокетства», – писала Е.А.Карамзина.
Своей красавице жене Пушкин посвятил известное стихотворение «Мадонна». Поэт называл жену «чистейшей прелести чистейший образец», и при этом изменял ей.
«Наше всё» с его «донжуанским списком» был ещё тот «сукин сын».
Донжуанский список — это два параллельных списка женщин, которыми увлекался А.С.Пушкин и/или с которыми был близок. Пушкин сам составил их в 1829 году в альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой.
В письме к В.Ф.Вяземской (1830 год) Пушкин признаётся: «Моя женитьба на Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена».
В школе мы учили стихотворение «Я помню чудное мгновенье…», которое Пушкин, якобы, посвятил Керн. Керн была замужней женщиной и она не была «гением чистой красоты». Это выражение принадлежит Жуковскому от впечатления встречи с картиной Рафаэля «Сикстинская мадонна». Модель и возлюбленная Рафаэля Форнарина по своему легкомысленному поведению была похожа на Керн.
В молодости Пушкин приударял за многими дамами, и хорошо знал цену своим ухаживаниям за замужними женщинами. Потому и в ухаживаниях Дантеса за своей женой поэт видел знакомые «определённые цели».
Наталья Николаевна и Дантес познакомились в 1835 году. Они были ровесниками – красавец и красавица 23 лет. Дантес откровенно волочился за Натали, а ей это льстило.
По мнению П.Е.Щёголева, «Наталья Николаевна была увлечена серьёзнее, чем Дантес... доминировал в любовном поединке Дантес: его искали больше, чем искал он сам».
2 ноября 1836 года Идалия Полетика пригласила к себе Наталью Николаевну, а сама ушла из дома, оставив там одного Дантеса, с которым и встретилась Натали.
Пушкин узнал об этой встрече лишь после получения анонимного пасквильного письма 4-го ноября. Он потребовал объяснений у жены. Наталья Николаевна призналась мужу в любви к Дантесу. Она рассказала, что когда оказалась с Дантесом, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Она отдала сердце Дантесу, но физически осталась чиста.
Но можно ли верить красивой женщине?
4 ноября 1836 года Пушкин получил анонимное письмо с «дипломом историографа ордена рогоносцев». Сверх того, семь или восемь других экземпляров были отправлены разным лицам в двойных конвертах; на внутреннем конверте был надписан адрес Пушкина.
“Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д.Л.Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютером великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И.Борх”.
Пушкин был возмущён, что его прозвали рогоносцем. При этом сам поэт без зазрения совести наставлял рога другим мужьям. Но чтобы защитить свою честь и честь жены, Пушкин вызвал на дуэль того, кого подозревал в авторстве пасквиля.
Пушкин был убеждён, что именно голландский посол – автор анонимки. Лицейский друг Пушкина М.Л.Яковлев, возглавлявший типографию императорской канцелярии и хорошо разбиравшийся в сортах бумаги, дал заключение, что “бумага иностранной выделки” и должна принадлежать какому-нибудь посольству.
Пушкин сделал для себя вывод: оскорбительное письмо исходило из голландского посольства, а автор его — известный интриган и недруг барон Луи Геккерн. Поэт умер с убеждённостью в этом. Однако, вывод Пушкина был не совсем верен. До сих пор нет твёрдых доказательств причастности Геккерна к пасквилю.
В 1927 году судебный эксперт А. А.Сальков на основе графического изучения почерков барона Луи Геккерна, князя И. C. Гагарина, князя П. В.Долгорукова пришёл к заключению: пасквильное письмо было написано князем Долгоруковым.
Вывод А.А.Салькова в дальнейшем подтвердили эксперты-криминалисты В.В.Томилин и М.Г.Любарский.
Однако многие пушкиноведы, в том числе П.Е.Щёголев, допускают, что Долгоруков являлся лишь физическим автором письма, замысел же его мог принадлежать Геккерну. Князь Гагарин и Долгоруков являлись друзьями Луи Геккерна и, предполагают, были с ним в интимных отношениях.
Кроме Геккерна подозрения падали на министра народного просвещения графа Уварова и жену министра иностранных дел графиню Нессельроде.
В письме, отправленном Геккерну 26 января 1837 года, Пушкин не оставил ни одного выражения из черновиков 4 ноября 1836 года, которое свидетельствовало бы о том, что Пушкин обвиняет Геккерна в составлении пасквиля.
Пушкин состоял на службе в Министерстве иностранных дел и получал годовое жалование 5 тыс. рублей. Оплата квартиры на Мойке стоила 4,5 тысячи рублей. Журнал «Современник» дохода не приносил, поэму «Медный всадник» цензура издавать запретила. Наряды Натали разоряли поэта. С 1836 года Пушкин был вынужден даже закладывать личные вещи. К моменту ранения Пушкин имел долг в 139 тыс. рублей, у него даже было заложено нижегородское имение.
После смерти поэта по указанию императора Николая I эти долги были погашены за счёт казны. Царь назначил вдове и детям ежегодную пенсию в 11 тыс. рублей, приказал принять обоих сыновей Пушкина в Пажеский корпус с бесплатным обучением, освободил от долгов имение в селе Михайловском, постановил издать полное собрание сочинений А.С.Пушкина, выручка от продажи которого должна была пойти в пользу семьи поэта.
Это произвело сильное впечатление на петербургское общество. Многие недоумевали – отчего Наталье Николаевне такая щедрость монарха?
После получения пасквиля вечером 4 ноября 1836 года Пушкин послал вызов (без указания причины) на дуэль Дантесу, который получил Геккерн. Геккерн просил у Пушкина отсрочки на 24 часа. Наталья Николаевна, узнав об этом, через своего брата Ивана срочно вызвала из Царского Села Жуковского. Благодаря участию Жуковского дуэль удалось предотвратить.
Дантес объявил, что его целью была женитьба на сестре Натальи Николаевны Екатерине. 17 ноября Пушкин послал своему секунданту Соллогубу отказ от дуэли. Вечером того же дня было официально объявлено о помолвке Дантеса и Екатерины Гончаровой.
10 января 1837 года была сыграна свадьба, и Дантес стал свояком Пушкину.
В свете стали говорить, что Дантес принёс себя в жертву, вступив в брак с нелюбимой женщиной, чтобы «спасти честь любимой».
23 января на балу у Воронцовых-Дашковых Дантес оскорбил Наталью Николаевну. Наталья Николаевна рассказала мужу, что Геккерн спросил её, когда же она наконец оставит своего мужа. После такого признания жены Александр Сергеевич в ночь с 25 на 26 января написал предельно резкое письмо Геккерну-отцу.
«…Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните моего сына. …»
Поэт знал, что в ответ получит вызов, и сознательно шёл на это. Я бы тоже не отказался от дуэли, получив такое оскорбительное письмо. Вместо Геккерна, который, как посланник иностранного государства, не мог участвовать в дуэли, вызов Пушкину сделал Дантес.
Утром 26 января письмо было отправлено Геккернам, а уже вечером к Пушкину явился атташе французского посольства виконт д’Аршиак с вызовом на поединок от Жоржа Дантеса.
Утром в день дуэли у Пушкина ещё не было секунданта. В 11 утра из окна квартиры Пушкин увидел своего лицейского друга Данзаса и пригласил его поехать свидетелем на разговор к д’Аршиаку.
Знал ли Данзас причины дуэли и всю предысторию конфликта, не известно. Но вместе с секундантом противника д’Аршиаком Данзас занялся пунктуально организацией дуэли a outrance, то есть до смертельного исхода.
По подсчётам пушкинистов, столкновение с Дантесом было как минимум двадцать первым вызовом на дуэль в жизни поэта. Он был инициатором пятнадцати дуэлей, из которых состоялись четыре, остальные не состоялись ввиду примирения сторон, в основном стараниями друзей Пушкина; в шести случаях вызов на дуэль исходил не от Пушкина, а от его оппонентов.
Все дуэли Пушкина были бескровные. «Всю жизнь я играл со смертью, а теперь она решила поиграть со мной», — говорил Александр Сергеевич.
Анна Ахматова писала: «П.Е.Щеголёв кончает свой труд о дуэли и смерти Пушкина рядом соображений, почему высший свет, его представители ненавидели поэта и извергли его, как инородное тело, из своей среды. Теперь настало время вывернуть эту проблему наизнанку и громко сказать не о том, что ОНИ сделали с ним, а о том, что ОН сделал с ними».
Для поэта важно красиво прожить, но важнее «красиво уйти».
«В этой своей последней дуэли Пушкин одержал победу. Он специально взошёл на свою Голгофу, для того, чтобы, распрощавшись с этой жизнью, вернуться к жизни вечной, к бессмертию», – говорил Лермонтов.
Сохранилась хронологическая запись поэта В.А.Жуковского о последнем дне жизни Александра Сергеевича. Судя по планам, Пушкин не собирался умирать. Хотя ещё до первого инцидента с Дантесом привёл в порядок дела и в 36 лет написал завещание.
Пушкин не скрывал от жены, что будет драться. Он спрашивал её, по кому она будет плакать. «По тому, – отвечала Наталья Николаевна, – кто будет убит».
Александр Сергеевич был очень вспыльчивым и раздражительным человеком, но во время дуэли сохранял хладнокровие. Он был отличным стрелком. Во время поединка всегда стремился стрелять вторым, поскольку сохранивший свой выстрел соперник имел право подозвать уже выстрелившего к барьеру, а это минимальное расстояние.
По пророчеству гадалки Киргоф, с Пушкиным на 37-м году могла случиться беда от белокурого человека. При венчании, кольцо из рук Натальи Николаевна упало на пол. Это была плохая примета. Пушкин был чуток к приметам. Но даже когда пришлось возвратиться, не отказался ехать на дуэль.
Поджидая своего секунданта за столиком у окна в кондитерской Вольфа и Беранже, Пушкин выпил стакан лимонада. Когда приехал Данзас с пистолетами, на санях они отправились к месту дуэли. На Дворцовой набережной им повстречался экипаж Натальи Николаевны. Однако жена Пушкина была близорука, а Александр Сергеевич отвернулся и смотрел в другую сторону.
Пушкин доверял своему лицейскому другу. Но когда переезжали через Неву, Пушкин шутливо спросил у Данзаса: «Уж не в крепость ли ты меня везёшь?»
По закону подполковник Данзас был обязан сообщить о дуэли. И если бы он сообщил, то, возможно, этим спас лицейского друга и первого поэта России.
Некоторые считают, что Данзас фактически предал Пушкина. Ссыльный декабрист Иван Пущин негодовал: «Если бы я был на месте Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь...»
Перед дуэлью Пушкин снял с руки перстень-талисман, с которым никогда не расставался, и передал Данзасу. Поэт словно прощался с жизнью. Этот перстень Пушкина до сих пор не найден.
Дуэль состоялась 27 января 1837 года после 16 часов дня. Поэту было 37 лет, его противнику оставалась неделя до 25 лет. Место дуэли – перелесок близ Комендантской дачи рядом с Чёрной речкой.
Условия дуэли были следующими: стрелялись с 20 шагов, барьер составлял 10 шагов. Противники должны были идти к барьеру и произвести по одному выстрелу. Дуэльные пистолеты имели пули с диаметром 12 мм. Такой маленький снаряд мог легко нанести смертельное ранение.
В Европе стрелялись с 30 шагов. В России стрелялись даже с шести.
Пушкин быстрее подошёл к барьеру, прицелился, но француз выстрелил раньше. Пуля попала в правую часть живота поэта. Пушкин упал на шинель Данзаса и, казалось, потерял сознание. Секунданты бросились к нему, но, когда Дантес намеревался сделать то же самое, Пушкин крикнул по-французски: “Подождите, у меня ещё достаточно силы, чтобы сделать свой выстрел”.
Почему Дантес выстрелил первым, не дойдя до барьера? Он знал, что Пушкин не промахнётся. И если Дантес был в кольчужке, то убийством хотел себя обезопасить.
Александр Сергеевич сел, опёрся на левую руку, прицелился и выстрелил. Выпущенная из пистолета пуля попала в правое предплечье француза. Тот упал, поэт крикнул: "Браво!" .Но Жорж быстро поднялся на ноги. Его ранение не было опасным.
«Странно, – сказал Пушкин, – я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет… Впрочем, всё равно. Как только мы поправимся, снова начнём».
По официальным материалам, выпущенная Пушкиным из пистолета пуля пробила Дантесу правую руку и, попав в металлическую пуговицу мундира, отрикошетила. Иначе говоря, пуговица спасла жизнь Дантесу.
Писатель В. В.Вересаев в книге «Пушкин в жизни» высказал предположение: барон Луи Геккерн, добившись отсрочки у поэта, заказал для своего приёмного сына нательную кольчугу, которая и спасла жизнь Дантесу.
В 1938 году, используя достижения судебной баллистики, инженер М. З.Комар вычислил, что пуля неминуемо деформировала бы пуговицу и вдавила её в тело. Однако в материалах военно-судебной комиссии отсутствуют сведения об осмотре деформированной пуговицы с мундира Дантеса. Пуговицу эту до сих пор не нашли.
Судебный медик В. Сафронов также пришёл к выводу, что пуля попала в преграду больших размеров и плотности. В 1962 году был проведён следственный эксперимент: изготовили манекен рослого кавалергарда, одетого в мундир Дантеса и произвели прицельные выстрелы с учётом условий роковой дуэли. Авторы эксперимента сделали вывод о том, что под мундиром Дантеса существовала защита типа кольчуги.
Секундант Пушкина Данзас всю последующую жизнь после злополучной дуэли сожалел о том, что не выполнил надлежащих прав дуэли и не произвёл осмотр одеяния Дантеса. Возможно, обнаружил бы под мундиром стальную кольчужку. Такие кольчужки уже практиковались, но на дуэли одевать их было против законов чести.
Данзас трижды нарушил дуэльный кодекс: не осмотрел одежду Дантеса, не пригласил на место поединка врача и не составив подробного протокола.
Почему Данзас совершил такую непростительную небрежность?
При этом он отказался скрыть своё участие в дуэли.
За секундантство на дуэли Пушкина Данзас был приговорён судом к виселице. Но наказание было заменено императором на 2 дополнительных месяца ареста в Петропавловской крепости. Подполковник Данзас даже не был разжалован, и в итоге дослужился до генерал-майора. Умер в возрасте семидесяти лет.
Раненого Пушкина повезли с места дуэли на санях извозчика; а у Комендантской дачи пересадили в карету, которую послал старший Геккерен. Если бы Пушкина везли на санях, то привезли бы вдвое быстрее и, значит, раненый потерял бы меньше крови.
С каким желанием ехал Пушкин на дуэль: убить или быть убитым?
Ахматова писала, что ей трудно представить возвращающегося с дуэли торжествующего Пушкина, после того как он убил своего родственника.
В стихотворении «Странник» Пушкин писал:
“Познай мой жребий злобный:
Я осуждён на смерть
и позван в суд загробный —
И вот о чём крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит”.
По мнению В. Вересаева, в последний год жизни Пушкин решительно искал смерти. Другие считают, напротив, поэт не собирался уходить из жизни. Близкий друг поэта А. И.Тургенев вспоминал о том, что накануне дуэли ему принесли от Пушкина записку: «Не могу отлучиться. Жду Вас до 5 часов». В свои 37 лет Пушкин был полон идей и творческих замыслов.
Существует версия, что Александр Сергеевич втайне надеялся на то, что после дуэли, в случае благоприятного исхода, он будет вновь отправлен в ссылку в Михайловское, уедет туда вместе с женой и детьми и целиком отдастся литературной работе.
Однако, если бы Пушкин остался жив, его бы наказали суровее всех других участников поединка.
Смерть Пушкина наступила 29 января (10 февраля по новому стилю) 1837 года в 14 часов 45 минут в Санкт-Петербурге, доме №12 на набережной реки Мойки. Жуковский в этот момент навсегда остановил часы в кабинете поэта.
Поскольку дуэль это убийство, митрополит не разрешил отпевать Пушкина. И только по приказу царя отпевание было назначено. В приглашении написали, что оно состоится в Исаакиевской церкви. Но отпевали на Конюшенной площади в храме Спаса Нерукотворного Образа. Пушкин перед смертью исповедался и причастился, и ему были отпущены его грехи.
© Николай Кофырин – Новая Русская Литература
Читайте также